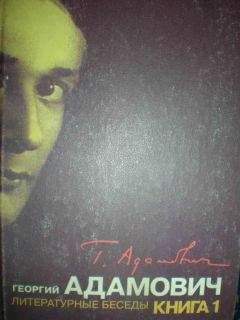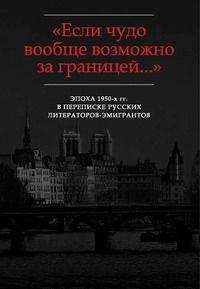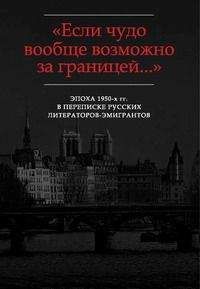Уже в конце двадцатых годов Адамович, анализируя творчество М.Зощенко, К. Федина, Ю. Слезкина, заметил, насколько часто у этих и многих других советских писателей присутствует тема бессмысленности происходящего, и уже тогда неоднократно высказывался о формировании особого типа творчества, который гораздо позже будет назван литературоведами «эзоповым языком» советской литературы: «Рядом с сочувственно-бытовой литературой в России все пышнее расцветает эта литература “бреда” <…> не отражается ли в этих уклончиво-двусмысленных, неясно-насмешливых образах многое из того, что не могло быть высказано открыто?» [19]
В начале тридцатых годов Адамович уже отчетливо представлял себе процессы, происходящие в советской литературе, как «постепенное исчезновение в ней свободы», когда «мало-помалу суживаются и скудеют темы, все теснее замыкается советская литература в "плановом" обслуживании временных и местных государственных нужд»[20]. Причем «роковым моментом в истории советской литературы» считал «знаменитую резолюцию ЦК 1925 года — ту резолюцию, которую не только в России, но и здесь многие искренно приветствовали, как некую хартию вольностей, дарованную писателям», резонно полагая, что «создан был ужасный прецедент <…> если ЦК признает за собой право дать писателям кое-какую свободу, то, очевидно, он считает для себя позволенным эту свободу и отнять»[21]. По той же причине не испытывал он и бурного восторга после «всемирно-исторического» постановления 1932 г. о роспуске РАППа[22].
В 1934 г. он констатировал и «убыль интереса к советским книгам» у эмигрантского читателя: «Советская литература мало-помалу перестает интересовать потому, что мы уже не понимаем, о чем она говорит»[23]. По его мнению, «теория "социалистического реализма", из-за которой столько было криков и споров, свелась в конце концов к положению, что социалистический реализм есть реализм, соединяющий высокую художественность с пропагандой в пользу существующего строя» [24].
Все последующие периоды советской литературы Адамович рассматривал исключительно как очередные этапы подчинения творчества политике, причем каждый последующий этап приводил ко все более печальным результатам. В эпоху Воронского подлинной свободы творчества уже не было, хотя тот и пытался противостоять натиску новых, еще сильнее политизированных, литературных лидеров. Лишь когда они одержали верх, стало очевидным, по мнению Адамовича, что Воронский играл относительно благовидную роль, оставляя искусству хоть какую-то отдушину, пусть в виде фрейдизма. В собственных писаниях Воронского, а также в его литературных пристрастиях марксистская догма еще могла подвергаться критике. При Авербахе, в эпоху стремления к личному лидерству, догма уже была неприкосновенна, и любые творческие поползновения дозволялись лишь после окончательных расчетов с этой догмой. Но все же дозволялись. Адамович не мог этого не отметить в канун падения Авербаха, уже тогда довольно верно предсказывая худшие для советской литературы времена. С падением Авербаха ни о каком творчестве больше уже и речи быть не могло. Признавалась только догма и ничего кроме догмы.
Любопытно, что Адамович, следя пристально за всеми этими дворцовыми переворотами, почти всегда больше сожалеет об очередном падении своих явных идеологических врагов, чем злорадствует. Сожалеет, ибо предчувствует, что идущие им на смену принесут еще больше вреда русской литературе.
В 1937 г. в статье «Памяти советской литературы» Адамович окончательно похоронил словесность метрополии, признав, что в целом «это была плохая литература, — сырая, торопливая, грубоватая. И не только формально плохая. Самое понятие творческой личности было в ней унижено и придавлено <…> Ответы ее, "достижения" ее, обещания ее были бедны. Но вопросы ее были глубоки и внутренне правдивы — как глубок и внутренне правдив вопрос, заключенный в самой революции. Это в советской литературе было самое главное — и это давно уже нас примирило, у чистых ее представителей, с неизбежной двусмысленностью сознания и речи, с наивностью приемов, с косностью взгляда, бог знает с чем еще» [25]. Впрочем, эта констатация не помешала ему все так же пристально следить за литературой в СССР.
«Надо всегда помнить, — считал Адамович, — что все движения и течения советской литературы, — как, в сущности, и все процессы современной русской жизни вообще, — представляют собою результат столкновения или соприкосновения двух сил: власти и народа, режима и среды, произвола и творчества, — и что если этой двойственностью пренебречь, выводы наверное окажутся фальсифицированными». Склонность к подобному упрощению он видел и у советских, и у эмигрантских критиков: «В Москве утверждают, что все русские настроения и стремления, в частности, настроения и стремления литературные, проникнуты единством, — потому что власть и партия в совершенной точности и чистоте выражают волю страны. В эмиграции до сих пор распространено убеждение, что разрыв между властью и страной, так сказать, абсолютен и что поэтому в советской печати подвизаются лишь лакеи или рабы, а люди, еще не окончательно утратившие самостоятельности и человеческого достоинства, оказались из нее мало-помалу исключены. По обеим формулам можно было бы написать стройную с виду “историю советской литературы”»[26].
Под литературой он понимал нечто иное, мало совместимое с советской идеологией, о чем часто писал. Но тем не менее внимательно следил за тем, что делается в литературе советской России. Следил едва ли не с одной целью: заметить пробуждающиеся ростки того, что вновь сделает советского человека русским, а беллетристику из идеологии вновь превратит в литературу. Любые мало-мальские намеки на это отмечал сразу же, а если они затихали, – разочаровывался в авторе, но не в процессе, ибо сам процесс считал необратимым.
Иногда приходится слышать мнение, что вольно ему там было говорить все, что хочет, потому, дескать, и оценки его более точны и объективны, а дай такую волю всем, и у других получилось бы не хуже. Думается, что если б нашелся человек, мысливший столь же адекватно, эти мысли просочились бы у него даже через тесные сита советской цензуры. А уж в эмиграции тем более цензурные рамки и давление общественного мнения были гораздо слабее, чем в метрополии (особенно в отношении советской литературы), однако и там преобладает все же ругань, а попаданий пальцем в небо не многим меньше, чем в советской критике. Довлеющие вкусы эпохи (заставляющие помимо своей воли принимать или отвергать произведение) оказались и там достаточно сильны, так что критиков более или менее объективных не так уж много даже в эмиграции, которая по праву может гордиться своими достижениями в этом жанре.
Кажется, никто не пробовал вычислить стандартный процент попаданий в точку у литературных критиков, которые всегда любили делать прогнозы и лишь в последнее время стали побаиваться такой ответственности, поскольку, видимо, совсем перестали понимать, что происходит с литературой. На глазок можно предположить, что процент попаданий в XIX столетии, так и в XX составлял в среднем центов 30 (остальные «уходили в молоко» по нескольким причинам, из которых главные — ненаблюдательность критиков и стремительно изменяющаяся ситуация). Критика, у которого сбывались до 50 процентов предсказаний, можно уже считать исключительно чутким, тонким и дальновидным, таких в любую эпоху было немного. А уж столь прозорливых пророков, как Иннокентий Анненский, Николай Гумилев, Валерий Брюсов, которые промахивались только через два раза на третий, в 70 же процентах случаев давали точный прогноз, и вовсе было лишь несколько.
Так вот, если посмотреть с этой точки зрения на критические способности Адамовича, сравнить его прогнозы и оценки с ныне бытующими представлениями, то окажется, что он, несмотря на всю свою легкость и непринужденность, принадлежит к этим нескольким безошибочным провидцам и законодателям вкуса. Во всяком случае, на общем фоне критиков XX века он просто какой-то беспристрастный судия (если, конечно, речь не идет о его ближайших приятелях, в отзывах о которых он позволял себе иной раз покривить душой, не желая огорчать хорошего человека).
Начавшаяся лет пятнадцать назад шумная и до сих пор не завершившаяся переоценка советских литераторов вряд ли могла вызвать хоть какой-нибудь энтузиазм у читавших статьи Адамовича, — за все годы переоценки не было высказано почти ничего, что не содержалось бы в его статьях. Только он писал короче и точнее, чем это сейчас принято. Несколько фраз о Маяковском, напечатанных в 1925г.[27], и сегодня звучат словно вывод из большой статьи Жолковского, книги Карабичевского и целого ряда появившихся в последние годы второстепенных работ.