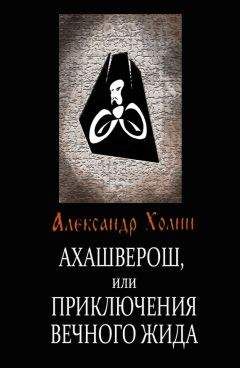«Русская литература – как животворение – отнюдь не всегда озвучивала души только благородные и возвышенные, наблюдательные и чувствительные, но сам автор “русской литературы” обязан был быть благородным. Для многих творчество становилось преградой наоборот: в литературу могли войти только те, у кого дух был высокого и стройного роста. Все мелкотравчатое шло рядом, мимо, проходило сквозь поэзию, как игла сквозь воду, не оставляя следа. А ваши тексты пытаются “вочеловечить” душу поэтически “мелкого” человечка, что-то среднее между кретином и педерастом», – я позволил себе процитировать отрывок своего же письма пятнадцатилетней давности другому писателю – скончавшемуся в 1981 году, Евгению Харитонову.
Но появление здесь этого имени не случайно. И Харитонов, и Лимонов, и Вик. Ерофеев первыми ввели в пантеон русских литературных героев принципиально новый тип – героя с неблагородным поведением, которое оценивалось повествователем не столько как положительное, сколько как «само собой разумеющееся». И в этом отличие не только от раннего Горького, но и от всей романтической традиции, для которой характерен как раз «высокий герой», чудак, экзотическая личность, но его конфликт с обществом всегда рассматривался в масштабе ценностей высокой романтической традиции. Оппозиция «высокое-низкое» разрешалась, конечно, в пользу первого, в то время как в нашем случае «высокого», привычной системы ценностей либо совсем не существует, либо она сдвинута относительно своих привычных соответствий. Мало того, что новый герой – это «маленький человек» не в униженном, а в бунтующем состоянии, сама проза – не что иное, как рассказ «маленького неблагородного человека», под которого стилизует свою прозу автор.
Но – именно стилизует. То есть между героем (а также его двойником-рассказчиком) и реальным автором не просто существует дистанция, герой и автор принадлежат разным мирам: один – миру литературы, другой – жизни как таковой. Они могут быть похожи при невнимательном взгляде (Лимонов), могут вопиюще не совпадать (Ерофеев и Харитонов), но, конечно, подчиняются разным законам существования. И то, что Кабаков не отличает одного от другого, не делает чести его наблюдательности. Герой романа «Это я, Эдичка» и герои рассказов Харитонова типологически схожи, но между Лимоновым и Харитоновым нет ничего общего.
Формула Лимонова-человека, его сознательно построенный имидж, просты. Как магнитная стрелка тяготеет к полюсу, так Лимонов всегда стремился к скандалу. Всюду оказываясь в положении «против». Против общего мнения, против сияющего мнения большинства. Если все вокруг «за», то он всегда против. Так было в послевоенном Харькове, где он был полублатным и одновременно начинающим поэтом; потом в Москве, где, став поэтом, «широко известным в узких кругах», зарабатывал себе на жизнь шитьем брюк; в Америке, куда отправился за славой, думается, несколько иной, чем в конце концов заработал; в Париже, где играл роль затворника, и теперь в Москве.
Есть в Лимонове своеобразный талант – всегда быть антифлюгером. Или флюгером наоборот – флюгером, указывающим на меньшинство. Все – по ветру, он – против шерсти. Когда все за коммунистов, то он – диссидент; все вокруг богатые – он, не скрывая зависти, – за бедных; русский писатель традиционно благороден – он уверяет, что готов подставить задницу любому негру, только заплати; русская литература «самая духовная» – вот вам моя мерзкая плоть. А если все за демократов, то он, конечно, за гэкачепистов. Потому что всегда точно находил правило, чтобы стать из него исключением.
Кстати говоря, его письмо в «Московские новости» – весьма характерный симптом, указывающий на то, что чутье Лимонову не изменяет. Он просто почувствовал, что неожиданно оказался в той стороне, за которой растущая на глазах сила, и если завтра национал-коммунисты придут к власти, можно не сомневаться, Лимонов еще раз продемонстрирует способность к перверсии.
Но даже если бы все творчество и жизнь Лимонова можно было бы свести к почти механически выстроенной позиции протеста-инверсии, уже этого было бы много, ибо обладать свойством антифлюгера, всегда противостоять штампу общего места – дар немалый. Но Лимонову в «Эдичке» удалось большее: он сумел угадать, увидеть и воплотить в образе бесконечно живого, бесконечно отвратительного – настоящего нового героя нашего времени, у которого под маской наигранного грубого цинизма и напускного эгоизма скрывается не лебяжий пух трепетной, доброй и обиженной души, а подлинный эгоцентризм, высшей пробы цинизм и хитрый прищур ловкого и холодного игрока. Лимонов (как, впрочем, и Ерофеев, и Харитонов, при всех их отличиях) одним из первых обнаружил и достоверно описал тип не лишенного обаяния негодяя, артистичного хама, физиологически точного эгоцентрика, которого автор не только не осуждает, а искренне, откровенно и восхищенно любит. Как самого себя.
Конечно, вокруг нас огромное число честных и порядочных писателей, озабоченных общественными проблемами и изображающих вполне нормальных, здоровых и вызывающих сочувствие персонажей. А вот герой Лимонова не вызывает сочувствия и открыт для любых упреков, кроме, пожалуй, одного – в этом герое действительно угадана не просто редкая эксцентричная личность, а массовый тип, который, как в песне Гребенщикова, «сотрет нас с лица земли».
Даже в лучших своих вещах Лимонов удивительно однообразен (в нелучших, нехарактерных – он попросту неинтересен). Один и тот же прием – назойливого саморазоблачения и постоянного переименовывания окружающих и привычных предметов и понятий в соответствии с ненормативной лексикой. И за всем этим поза любующегося собой автора. Но, думается, «Эдичка» останется и займет свое место где-то рядом с Гумбертом Набокова, Маллоем Беккета и даже Печориным.
Явление Лимонова не случай, оно – симптоматично. И не только для русской литературы, но и для жизни России в последней четверти ХХ века. И здесь встает неизбежный вопрос о том, что и зачем делает литература в нашем мире? Должен ли писатель рассказывать поучительные истории, обращаясь с читателем как воспитатель с учеником, или довольно, «что болезнь указана, а как ее излечить – это уж Бог знает!»? Всем в жизни хочется добра, покоя, любви, но должна ли литература превращаться в проповедь добра или в литературе ценно именно свидетельствование? Скорее всего, нужно и то, и другое, и третье (чту не названо, так как определение «смысла литературы» так же трудно, как определение смысла жизни, хотя их «смысл» и «цель» порой не совпадают). А точнее, не нужно – а будет и то, и другое, и третье, потому что было всегда.
Здесь имеет смысл вернуться к противостоянию литературы «восьмидесятников» (которых на самом деле нельзя сводить ни к концептуализму, ни к постмодернизму, ни к нагловатой исповедальности так называемых «чернушников» – слишком разнятся и судьбы, и литературные пристрастия) и шестидесятников. Я позволю себе процитировать Александра Гениса из беседы, опубликованной в 7-м номере «Вестника новой литературы». Говоря о проблемах современной русской литературы и о подчас невидимых границах, на которые она разделена, он, в частности, сказал: «Что же это за граница – между двумя поколениями? Я представляю себе, что происходит очередная схватка между “отцами” и “детьми”. Но на этот раз она протекает в особо запутанной ситуации, поскольку “отцы” существуют на культурной арене уже по крайней мере лет тридцать: это шестидесятники, который шли к власти долго, мучительно, страдая, и поэтому им особенно трудно с ней расставаться. Беда в том, что шестидесятники как литературное поколение – одно из самых долгих за всю историю русской литературы, потому что это – поколение, определившее всю эстетику на тридцать лет. И это, конечно, очень много. То есть, в принципе, шестидесятники – это шишковы, которые “засиделись”. Я хочу сказать, что сейчас трагедия шестидесятнической культуры заключается в том, что она перезрела».
1994
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью
«Я не верю, будто есть люди, чье внутреннее состояние подобно моему, тем не менее я могу представить себе таких людей, но чтобы вокруг их головы все время летал, как вокруг моей, незримый ворон, этого я себе даже представить не могу».
Этой многозначительной цитатой из «Дневников» Ф. Кафки начинается книга, о которой можно было только мечтать в застойные времена. Дарел Шарп «Незримый ворон. Конфликт и Трансформация в жизни Франца Кафки». Перевод работы известного канадского психоаналитика юнгианского направления вышел в серии «Библиотека аналитической психологии» и представляет нам «жизнь и сновидения» одного из самых мрачных и симптоматичных писателей ХХ века.
Говорят, что однажды Томас Манн дал книгу Кафки Альберту Эйнштейну, который вернул ее, сопроводив таким замечанием: «Я не смог прочитать ее, ум человека недостаточно к этому готов». Эйнджел Флорес, редактор сборника критических очерков «Проблема Кафки», приводя данный анекдот, замечает: «Если Эйнштейн считает, что Кафка недоступен его пониманию, тогда он – единственный человек, признавший это. Почти каждый, кому доводилось читать Кафку, не говоря уже о тех, кто не читал его, не имеет и тени сомнения в том, что он вполне понимает Кафку, и более того, только он и понимает его».