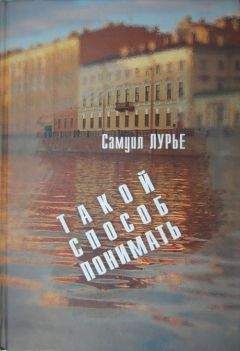И несчастные - несчастны, однако счастливцам своим Гоголь сострадает еще сильней; они так нуждаются в любви. Им это слово редко в голову приходит, и Акакий Акакиевич мечтает о новой шинели, как о "какой-то приятной подруге жизни", а Подколесин, наоборот, - о невесте как предмете вполне неодушевленном: "какие в самом деле бывают ручки. Ведь просто, брат, как молоко"; а Чичиков, хоть и гонит его по свету некий рок, удивительно напоминающий любознательность самого Н. В. Гоголя, - впрочем, какой же русский не любит быстрой езды, - Чичиков, представьте, преследует одну лишь цель - "всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уваженье граждан и начальства". Но автор-то знает: не шинели им нужны, и не прелесть купеческих и губернаторских дочерей, и даже не потомство... "Что значит, однако же, что и в паденье своем гибнущий грязный человек требует любви к себе? Животный ли инстинкт это? или слабый крик души, заглушенный тяжелым гнетом подлых страстей, еще пробивающийся через деревенеющую кору мерзостей, еще вопиющий: "Брат, спаси!""
А и в самом деле, отчего это Поприщину не только не бывать испанским королем, но и своему отечеству не доставить даже малейшей пользы? (Да что там государственная польза? и счастья личного-то ему не видать, и никогда, никогда не улыбнется уроду с волосами, как сено, дочка его превосходительства.) Отчего Башмачкин не пишет повестей, как Гоголь (или хотя бы статеек, как Тряпичкин), а пропадает ни за что, за шинель с кошачьим воротником? Отчего за краткий срок от юности до смерти человек, из которого "может быть чудо, а может выйти и дрянь", - почти всегда и весь разменивается на медную мелочь? Как писал один забытый романтический критик: "Ведь все люди родятся на свет благородными и созданы для великих дел, и "кувшинное рыло" - только страшная маска, надетая низким жребием на истинное лицо человека, и Манилов - может быть, Моцарт, ставший Маниловым, и в Коробочке умерла Жанна д'Арк... Леонардо и Собакевич - кто ответит за эту страшную разность?"
Акакий Акакиевич не слыхивал подобных рассуждений. Он вполне разделяет гипотезу своих сослуживцев, "что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове", что он от рождения ничтожный и смешной. Потому они его и дразнят (как будто рождены для этих скверных забав), потому он и терпит. Дескать, на роду так написано. Как сказал бы Городничий, закон судеб. И читатель повести "Шинель" мог страницей раньше воочию удостовериться, как этот закон непреложен. Разве не на глазах у читателя появилась на свет эта забавная и жалкая фигурка? Разве не доказали только что, и пренастойчиво, читателю, что предопределены от века и судьба, и характер, и наружность Акакия Акакиевича, что даже неблагообразное (хоть и с благородным внутренним значением) имя свое он носит "совершенно по необходимости и другого имени дать было никак невозможно"? (Вот он, последний - да еще последний ли? - смысл, иронический, конечно, той пресловутой страницы.)
И, пожалуй, рассмешил бы незадачливый герой доверчивого читателя, если бы не глянуло из повести на них обоих еще одно лицо - "один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться" над своим чудаковатым коллегой, но - "вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом свете".
Узнаете ли вы этого молодого человека, занимающего вакансию писца в Департаменте уделов? Если не ошибаюсь, у Гоголя нет других автопортретов; этот, с Башмачкиным, - единственный. И, за исключением воспоминаний Аксакова, это единственное изображение, где Гоголь, хоть и закрывшись рукою, смотрит прямо на нас:
"И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: "Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?" И в этих проникающих словах звенели другие слова: "Я брат твой". И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья..."
Марья Ивановна Гоголь осмелилась однажды в письме назвать обожаемого Никошу гением. Надо признаться, ей порядком досталось от почтительного сына. Изъявления восторга он переносил еще хуже, чем упреки, советы и насмешки; ведь в похвале таится самонадеянность: кто восхищен, тот не сомневается, что понял. Но чем дороже Гоголю был его замысел, тем несовершенней казалось ему исполнение; пропасть эта с каждым днем все раздвигалась, и он не верил, что его могут понять как должно, и терзался от непонимания, и оскорблялся претензией на понимание:
"...Не судите никогда, моя добрая и умная маминька, о литературе... Знаете ли вы, в какой можно попасть просак... Знаете ли, что в Петербурге, во всем Петербурге, может быть, только человек пять и есть, которые истинно и глубоко понимают искусство, а между тем, в Петербурге есть множество истинно прекрасных, благородных, образованных людей. Я сам, преданный и погрязнувший в этом ремесле, я сам никогда не смею быть так дерзок, чтобы сказать, что я могу судить и совершенно понимать такое-то произведение. Нет, может быть, я только десятую долю понимаю. Итак, не говорите о ней. Если вас спросят - отвечайте, но отвечайте односложно и переменяйте тотчас разговор на другое".
Какое чудное правило! Прямо золотое.
"Осмелюсь ли я повторить Вам мою просьбу касательно морской службы. Я умоляю Вас, милая маменька, об этой мне милости. ...В самом деле, я чувствую, что мне всегда нужно что-либо опасное, чтобы меня занимало, иначе я скучаю. Представьте себе, милая маменька, грозную бурю и меня, стоящего на палубе, как бы повелевающего разъяренному морю, доску между мною и смертью..." Так писал матери пятнадцатилетний Евгений Баратынский воспитанник Пажеского корпуса. Выражаясь современным слогом, это был трудный подросток. Он зачитывался романами о разбойниках и в шестнадцать лет стал соучастником кражи. На том и окончилась его юность. Дело вышло громкое. Пришлось поступать в гвардию рядовым. Нет, служить было не трудно, муштрой и фрунтом не мучили. Полк стоял в Петербурге, и жил Баратынский на частной квартире, и близко сошелся с лицеистами первого выпуска - Дельвиг и Пушкин обласкали его, - и ранняя слава ему улыбнулась, и стихи пошли в печать. Но Баратынский был старше своих сверстников на целое несчастье, на целое бесчестье. Как он ни старался, голос его выпадал из бодрого хора застольной лирики. Кругом пели о Дафнах, о Лилетах, а то и замахивались на государственный строй, - за всем этим слышалась горделивая вера в свои силы и неистовая надежда на будущее. Баратынский уже испытал первое поражение, чувства эти были ему чужды.
Может быть, он и оправился бы, но тут - и года не прошло - его перевели в полк, стоявший в Финляндии. На пять с лишним лет он остался один.
Начальство благоволило, писать и печататься никто не мешал, но и офицерский чин все не выходил, несмотря на хлопоты влиятельных литераторов. Это было изгнание, это была ссылка.
Тут и развивается в поэзии Баратынского особенная, меланхолическая гармония, основанная на превращении страсти в грусть. Чувство охладевает, умирает в рефлексии и лишь тогда проступает стихами. Элегия - признание такого чувства, прошедшего ущерб и сделавшегося утратой. Возникает лирика мнимых величин, изжитых ценностей. Темы, бывшие общим достоянием пушкинского круга, бледнеют в холодном свете разуверения. Любовь, дружба, счастье - разве не бессильны они перед временем, расстоянием и смертью? И человеческий жребий, стесненный со всех сторон то случайностью, то необходимостью, так беден, что странно выглядят романтические притязания личности на борьбу с судьбой. О нет, дайте только блудному сыну вернуться в отчий дом, и он благоразумнее распорядится своей свободой. Ни на что не променяет идеал тихой участи, смиренного житья! Не трогай меня, Рок, больше не буду, честное слово!
Так, небо не моля о почестях и злате,
Спокойный домосед, в моей безвестной хате,
Укрывшись от толпы взыскательных судей,
В кругу друзей своих, в кругу семьи своей
Я буду издали глядеть на бури света.
Но нет, не отменю священного обета!
.................................................................
В весенний ясный день я сам, друзья мои,
У брега насажу лесок уединенный,
И липу свежую, и тополь серебренный;
В тени их отдохнет мой правнук молодой;
Там дружба некогда сокроет пепел мой...
Ему двадцать лет от роду. Он больше не воображает себя мореплавателем. Хочет сажать деревья.