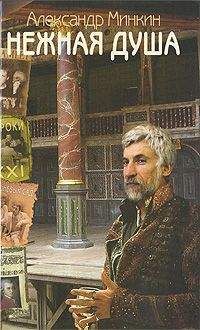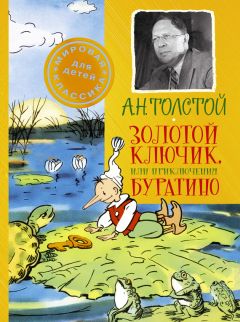«Врать неохота» – совсем другое. «Неохота» – слово вялое, пассивное, пафос и гордость отсутствуют начисто. Не принуждайте меня врать, потому что мне это скучно, давно надоело и очень противно. Конечно, вы можете меня заставить – воля ваша; если деваться будет некуда – я совру. Но учтите: это получится так отвратительно, так фальшиво, что никто не поверит. Уж лучше отстаньте от меня, ей-богу, – я спать хочу.
Если вы еще не поняли, о чем речь – поясню: я рисую вам портрет режиссера Юрия Погребнич-ко или – что то же самое – портрет его театра.
Прежнее название – «На Красной Пресне» – было абсолютно понятно каждому советскому человеку. Даже тем, кто никогда не ходит ни в какой театр, было ясно, что эта студия – боевая, передовая, революционная и идеологически безупречная. Дело в том (поясняю для иностранцев), что Красная Пресня – самое революционное место в нашей революционной стране. По революционности с Красной Пресней может тягаться лишь крейсер «Аврора». И то – проиграет, так как Аврора – все же греческое имя, то есть иностранное, то есть заведомо слабее, чем чисто русская Пресня (даже в стихах Пушкина упоминается, как, впрочем, и Аврора). К тому же на «Авроре» никто не погиб, а на баррикадах Красной Пресни погибло немало трудового народа. Этот печальный факт (гибель людей) доказывает, что на Пресне действительно стреляли. В то время как отдельные историки утверждают, что исторический выстрел «Авроры» был холостым, что само по себе ощущается как нечто пафосное и фальшивое (театральщина!) и это как бы отбрасывает хоть и легкую, но досадную тень на возвещенное сим громким, но пустым хлопком событие. Еще более отдельные историки рискуют (теперь это безопасно) публично сомневаться, что хрестоматийный (то есть вошедший во все хрестоматии) выстрел вообще прозвучал и что ничего не доказывает кинохроника тех дней (снятая гораздо позже) – немая, как и всё тогдашнее синема… Ну и так далее.
Вам, может быть, кажется, что это не портрет режиссера. А я думаю, что Погребничко – если прочтет – будет узнавать себя в каждой строчке, и ему даже покажется, что предыдущий пассаж – рецензия на его спектакль, вот только он забыл, какой, хотя, конечно, никаких революционных (как впрочем и анти-) спектаклей он не ставил.
Чтобы закончить затянувшуюся возню вокруг названия студии – скажу: от нее до Красной Пресни 4 (четыре!) автобусных остановки. Так что в свое время логичней было бы назвать театр «На Красной площади» или даже «У Мавзолея», докуда вчетверо ближе. И, может быть, основатель студии так и хотел, но ему не разрешили, опасаясь глумления.
Погребничко назвал театр «На Станкевича». Это абсолютно ничего никому не говорит. Это бессодержательное имя. Точнее – оно содержит действительный адрес. Но и только.
Так и театр Погребничко содержит театр и только.
Это не кафедра, с которой внушают добрые начала. Это не политическая трибуна, с которой зовут идти куда-то вперед. Это даже не развлечение для народа. Даже не зеркало, показывающее веку… Ну и так далее из «Гамлета».
Все мы всегда были уверены: талантов у нас пруд пруди. Свободы нет, товаров нет, ничего нет, а талантов – тысячи. Только ходу им не дают. Все знали, что сотни одаренных актеров и режиссеров – на улице. Пропадают ни за грош. В государственных театрах им места нет. А негосударственных театров у нас тогда не было.
Как только в 1985 году началась Оттепель № 2, надежды на возрождение театра вспыхнули мгновенно.
Что действительно дала Перестройка* – это свободу кому попало, где попало, играть что попало, как попало.
Сам видел спектакль, где двоечники, пэтэушни-цы и молодые разнорабочие наизусть произносили расписанные по ролям статьи молодежных газет о вреде проституции, СПИДа и рока. Они были уверены, что производимый ими шум – театр. И когда я спросил, учился ли кто-либо из них играть на сцене, они жутко обиделись и заорали: «А зачем?!!»
Действительно, зачем? Если ученье отодвинет на годы выход на сцену – зачем? Публика ж не дождется.
* Перестройка с большой не от избыточного уважения; это название эпохи – Ренессанс, Оттепель… Напишешь с маленькой – слякотная погода, с большой – эпоха уничтожения культа личности Сталина; Современник, Солженицын, Таганка…
** Бросив театр, превратился в политического проходимца – пишет безобразные тексты для Березовского, газеты «День» («Завтра»), Путина.
Но не лучше и заучившиеся. Студию «На досках» создал Сергей Кургинян*. Он долго учился точным наукам и даже получил степень. В свободное время он вычертил на бумаге схему талантливой игры на сцене и все рассчитал. Потом он собрал подростков и сообщил им о своем открытии. Подростки поверили и стали изучать новую театральную теорию, забывая о школе и еде. Жаль, что спектакли тяжело и скучно смотреть. Смысл текста (Пушкин, Достоевский…) исчезает совершенно, даже отдельные слова разрушаются на крики и визги ради соблюдения предписанных теорией правил.
Самое безошибочное решение нашел бывший театральный критик Александр Демидов – ЭРОТИКА!!! В нашем плохо, но плотно одетом обществе раздевание под музыку неотразимо привлекательно, даже если раздеваются не слишком привлекательные девушки. Важен процесс.
И процесс идет.
Пока остальной мир напуган дефицитом иммунитета, нас больше тревожит дефицит всего остального. Дефицит не столько гнездящийся внутри нас, сколько – окружающий снаружи. Можно сказать – мы живем в дырке от бублика.
Ужасно давно живем в дырке от очень давно обещанного бублика.
Понятное желание добраться от идейного, но пустого центра до его куда менее идейной, но – ах! – столь вкусной периферии – желание вполне человеческое и определяет удручающую схожесть большинства новых театров. Не в театральной идейности внутри себя, а в окружающей материальности обнаруживается более или менее скрытый стимул их лихорадочной деятельности.
Вот характерный пример. Промозглым осенним днем иду по площади Пушкина. Передо мною на дешевом мольберте – плакат, обещающий встречу с какой-то пьесой Беккета. (Говорю «какой-то», ибо не уверен в адекватности перевода.) Причем зазывный текст сформулирован так, что неопытный прохожий может вообразить, будто нобелевский лауреат сочинил пьесу специально для данной, приглашающей зрителя студии. Но меня останавливает не нахальство афиши, а симпатичные ножки в миниатюрных кроссовках, переминающиеся позади деревянных ножек мольберта. Заглядываю за афишу – вижу очаровательное, основательно продрогшее существо. На груди – лоток, как у папиросниц времен разрухи 1920-х, но на лотке не папиросы, а билеты на «спектакль века».
– Вы – актриса этого театра? – говорю по наитию.
– Да, – лепечет окоченевшая нимфетка.
– Гм, а какую пьесу сейчас репетируете?
– Ой, что вы! У нас совсем нет времени на репетиции – мы целыми днями билеты продаем. Нам так трудно! Понимаете?
Как не понять!
Поймите и меня, уважаемые читатели.
Сегодня в нашей стране преобладают (увы, сильно преобладают!) социально-рыночные, а не театральные, искусствоведческие проблемы. Я бы и рад писать (и, конечно, напишу) о духовных, творческих страданиях юных вертеров. Но…
Но пока меня завораживают не столько спектакли новообразовавшихся театров, сколько их наивная, симпатичная уверенность, что главное – это нарезать бумагу на кусочки, на каждом написать слово «билет», проставить цену и – продать. То есть – превратить прохожих в публику. А уж что ей показать – это неважно, это решим вечером. В конце концов, мир – театр, а все люди, продающие билеты, – актеры, а все покупающие – зрители.
Театр Юрия Погребничко – один из тех немногих, кто репетирует, а не торгует. Там идут пьесы, которых никто не знает, хотя авторы пьес всемирно известны. На афише: «Отчего застрелился Константин» Чехова, «Нужна трагическая актриса» Островского. Рядом с русскими классиками – советский классик Вампилов – «Я играю на танцах и похоронах».
Вскоре после начала спектакля зритель догадывается: а! это «Чайка»! а-а, это «Лес»! это «Старший сын!» Да, актеры произносят классические тексты, но интонации, манеры, смысл столь же странны и непривычны, как и названия.
Новые имена пьес звучат как газетные заголовки, как объявления на последней странице старого театрального журнала.
Десять лет назад Погребничко работал над «Тремя сестрами» в Театре на Таганке. Но выпустил спектакль Юрий Любимов – его фамилия на афише была крупно, а Погребничко – гораздо мельче. Затем в том же театре, в тех же декорациях Погреб-ничко поставил «Старшего сына» Вампилова. Спектакль до зрителя не дошел. Поняв, что роль очередного режиссера – не для него, Погребничко стал главным режиссером на Камчатке. Дальше от Москвы только Магелланов пролив. Там он упрямо поставил «Старшего сына», но под другим именем. А вернувшись в Москву, поставил пьесу в третий раз. Не для доказательств чего-либо, просто пьеса любимая. Но память о таганских страданиях проявилась и в постановке Чехова. «Чайка» начинается смачно исполняемой блатной песней.