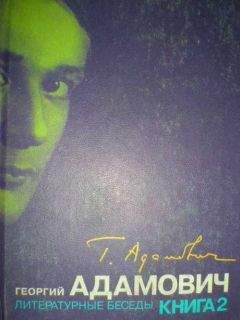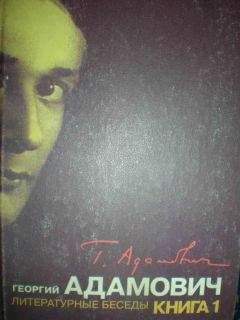Романом можно ее назвать лишь с большой натяжкой. «После урагана» — путевой дневник скитающегося по всему свету русского интеллигента. Действие происходит в 1919-21 годах, и под «ураганом» подразумевается, очевидно, русская революция. Герой, автор записей — человек больной, скучающий, состоятельный. Он из Гавра отправляется в Америку. Оттуда в Японию. Затем в Сибирь, где застает разгром и конец белого движения. Из Сибири в Рим, из Рима в Париж – и так далее. Что он делает, и чего он ищет? Ничего. Он больше наблюдает жизнь, чем живет. Кельчевский, по-видимому, чувствовал потребность дать обыкновенный, традиционный роман, с любовной завязкой и такой же развязкой. Поэтому он ввел в свою книгу некую Елену, девицу прекрасную и гордую, очерченную довольно схематически. Герой влюбляется в Елену, теряет ее из виду, вновь встречает, женится на ее матери вместо того, чтобы жениться на ней самой, и в конце концов куда-то уезжает, кажется, опять в Америку, залечивать сердечные раны. Эта любовная интрига — наименее удачная часть романа. Она очень искусственна, книжно-надуманна, отдает чем-то скандинавским, не то Гамсуном, не то другими норвежцами, помельче. Если бы в ней была главная тяжесть романа, мы, конечно, причислили бы Кельчевского к писателям не особенно даровитым, не особенно и интересным. К счастью, это не так. Кельчевский — едва ли «художник», в общепринятом смысле слова, но это, несомненно, умный, много видящий, много понимающий человек, блестяще владеющий даром выражения своих мыслей и чувств, всего своего внутреннего мира. А мир этот — трезво-холодное мечтательство, тревожный и грустный скептицизм, яд Достоевского, разбавленный водицей Анатоля Франса, нечто довольно необычное для русского человека и всегда производящее впечатление крайней душевной утонченности.
В том, что Кельчевский по природе не «художник», убеждает почти каждая страница книги. Его герой тщательно и подробно описывает всех своих спутников по странствованиям. Описания эти неплохи – но они не нужны. Их слишком много, они заслоняют одно другое, сливаются. Отсутствие подлинно беллетристического дара сказывается не столько в бледной протокольности отдельных описаний, сколько в том, что автор не в состоянии создать из них что-либо целое, в том, что у него отсутствует чувство меры в их распределении. Образы людей — не дело Кельчевского. Гораздо лучше ему удаются картины городов — вообще природа, одушевленная или мертвая. Но подлинная его область — размышления, то облеченные в форму разговоров, то в виде личных записей.
Было бы ошибкой предположить, что размышления эти отличаются глубоким, сразу очевидным своеобразием или оригинальностью, увлекают своей страстностью. Нет, Кельчевский пишет языком традиционно-гладким, правильным чуть ли не до безличья. Внешне его книга ничем не поражает. Мысли не доведены до последних выводов, иногда даже обрываются на полуслове. Книга напоминает беседу светского и прекрасно воспитанного человека, которому хочется заинтересовать слушателя, но не желательно его взволновать… Однако в этом соединении остроты и вялости есть что-то неотразимое, и чем дальше читаешь «После урагана», тем больше этот роман пленяет. Умных книг ведь не так много в нашей теперешней литературе! Мы проповедуем, ссоримся, вещаем, негодуем, возмущаемся, восхищаемся — и во всем этом, «как посмотришь с холодным вниманьем вокруг», больше чувства, чем мысли. Элемент «ума», никогда не бывший в нашей импульсивной словесности преобладающим, теперь окончательно отступил на второй план. Будто бы это и «не важно», будто бы это и «не существенно». «Что такое “ум”? – спросит, пожалуй, читатель. – Что подразумеваете вы под этим понятием?» Определений множество, и хоть ни одно из них не является исчерпывающим, все же из суммы получается некоторое «среднее», довольно удовлетворительное. Знание людей и себя, понимание человеческих отношений, понимание причин и следствий человеческих поступков или намерений, дар предвидения, способность отличать наиболее реальное от наиболее вероятного, чувство смешного (нелепого, ridicule — едва ли не самое главное!), чувство обстановки и того, что данной обстановке соответствует… Ум, конечно, имеет мало общего с мудростью. Мудрость бывает и смешна, и слепа, чего с умом не случается. Может быть, мудрость по сравнению с умом есть высший дар, может быть, ум не сочетается с вдохновением и слишком похож на расчет, — с этим я спорить не стану. Но ясно одно: нельзя считать ум «вещью несущественной», не отнеся одновременно к несущественному всю жизнь, где мелкое сплетено с великим и простое с таинственным. Ум ведь есть, в конце концов, только зрячесть к жизни — ничего другого. У нас слишком пристрастны к «движению вслепую» — к воле и чувству, оседлавшим рассудок. Как редкому подарку, радуешься даже неподвижной зрячести, даже безвольно –умной книге.
Кельчевский в своем романе не взлетает за облака, не спускается в подземные недра и не поучает. Он анализирует явления, доступные общему наблюдению. Даже говоря о любви и о Боге, он не ищет слов громких и звонких. Суховато, деловито. Но почти всегда ему удается сказать нечто новое и запоминающееся. Политика, быт, характер и поступки людей, все, что лежит на поверхности бытия, привлекает его. Он интересен во всех своих суждениях. Сдержанно, изящно и точно он заставляет то своего героя, то своих собеседников говорить на темы самые животрепещущие, и там, где другой наставил бы тысячи восклицательных знаков, тире и многоточий, Кельчевский ухитряется ограничиться стилем идеальной передовицы. Но ограничиться, ничем не пожертвовав: в этом прелесть его сухости, от этого книга Кельчевского приобретает какую-то особенно ценную «чистоплотность». Очень уж измельчала славянская назойливая чувствительность. «Надо бы Россию подморозить», – сказал Константин Леонтьев. Оставим в стороне вопрос, верно ли его замечание политически и государственно. Стилистически оно, во всяком случае, — истина из истин. И не следует думать, что говоря «стилистически», мы замыкаемся в область пустяков и мелочей: стиль не только отражает человека, он его и воспитывает.
Книга Кельчевского ничему цельному не учит и ни к чему единому не ведет. Она — лишь сборник «горестных замет». Но больше, чем когда бы то ни было, мне хочется кончить эту мою беседу излюбленной фразой многих критиков и рецензентов, то есть пожелать новому роману «самого широкого распространения».
< «ПУШКИН И МУЗЫКА» С. СЕРАПИНА >
Лучше поздно, чем никогда. Еженедельно «беседуя» с читателями «Звена» о литературе, я большей частью выбираю предметом беседы новые книги и из них те, которые кажутся мне лучшими. Но «лучший» – понятие относительное. Нередко в разряд сравнительно лучших попадают книги, о которых нечего сказать: чисто, гладко, неглупо – только и всего. Поэтому я искренно жалею, что пропустил, проглядел книгу незаурядную, во многих отношениях замечательную — «Пушкин и музыка» недавно скончавшегося С. Серапина[5]. Я хочу теперь эту ошибку исправить. Книга по прочтении оставляет впечатление смутное; смесь мыслей очень глубоких с довольно наивными; много шаткого, спорного, недообъясненного. Но дух этой книги — живой, подлинно творческий. Читается она не только с удовольствием, но местами с наслаждением. Некоторые страницы вызывают улыбку, другие — чувство досады, но многие восхищают. Не знаю, кем и чем был Серапин, сколько ему было лет, является ли его книга первым торопливым опытом или плодом долгого размышления и долгой работы. Но не сомневаюсь, что Россия потеряла в его лице настоящего писателя.
Книга его напомнила мне другую, давно вышедшую книгу, тоже о музыке. О ней мне хочется вкратце рассказать читателю.
У Розанова в «Уединенном» или «Опавших листьях» есть приблизительно такая запись: он Розанов, считает себя на редкость умным человеком, и ему никогда в жизни не приходилось встречать людей умнее себя. Несколько исключений он тут же называет. Кажется, это — Константин Леонтьев, священник П. Флоренский и кто-то еще, чуть ли не Победоносцев. Розанов добавляет, что «необычайно умным» показался ему некий Ф. Тигранов, автор книги о Вагнере, но что при личной встрече он в нем разочаровался… В то время, когда я читал розановские заметки, Вагнер владел моим воображением всецело. В непогрешимости розановского чутья — особенно насчет различения «умного» от «глупого» — я был убежден глубоко. Поэтому я немедленно принялся разыскивать книгу Тигранова («Кольцо Нибелунгов»). Помню, что найти ее мне удалось не сразу. Никто не знал ее, у Вольфа отвечали обычным и неизменным «распродано», хотя ни в коем случае книга эта распродана быть не могла.
Она меня глубоко поразила. Теперь, через пятнадцать лет, я не могу отдать себе ясный отчет, действительно ли тиграновское «Кольцо Нибелунгов» столь необычайно, как мне тогда показалось. Но я все-таки недоумеваю, как случилось, что книга эта куда-то бесследно канула, осталась совершенно незамеченной и неоцененной. Были в ней удивительные проблески и догадки, какая-то вдохновенность мысли наряду с ужасающей тривиальностью, с площадными парадоксами, — как бывает иногда у авторов, сложившихся вне общей культуры, у самоуверенных одиночек, у тех, кто ни с кем и ни с чем, кроме самих себя, не считается, никого не слушает, никого не признает. Ощущение наглости и гениальности осталось от тиграновской книги у меня до сих пор.