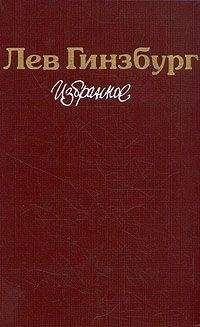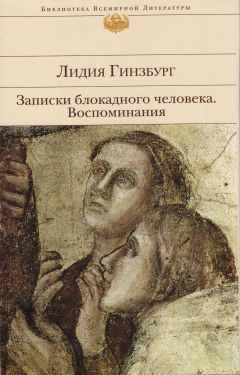Мирный договор подписывали не в здании ратуши — носили на подпись посланникам на квартиры.
Потом грянули залпы салютов, взвились в небо ракеты фейерверков, ударили колокола.
За что воевали тридцать лет? В 1648 году первоначальные мотивы войны были почти забыты. Мы читаем у Шиллера: «Бедствия Германии были столь ужасающими, что миллионы людей молили лишь о мире и самый невыгодный мир казался благодеянием небес».
Пустырем отчизна стала,
Слезы выпиты до дна,
Даже смерть — и та устала…
Так окончилась война.
Посланники задержались в Мюнстере до февраля 1649 года.
19 февраля в здании ратуши состоялась церемония ратификации Вестфальского договора, затем был устроен необычайно пышный прием.
После того как разбомбленную, превращенную в груду руин ратушу восстановили в 1948 году, при входе в Зал мира укрепили табличку с латинским изречением:
«Мир — высшее благо».
Миновало страшное тридцатилетие. Наступали десятилетия зыбкого мира.
Логау беспощадно язвил:
Война — всегда война. Ей трудно быть иною,
Куда опасней мир, коль он чреват войною.
Томас Манн писал, что Тридцатилетняя война «опустошила страну и в культурном развитии роковым образом отбросила ее назад».
Однако именно в эти годы Германия дала великих людей: в литературе Грифиуса, в музыке — Шютца.
Андреаса Грифиуса называли силезским Шекспиром.
Он родился в год смерти Шекспира и Сервантеса, в 1616 году, он умер в год столетия Шекспира.
В Глогау заседал магистрат…
«…16 июля 1664 года без четверти пять после полудня его в присутствии всех собравшихся членов магистрата и комиссий поразил столь внезапный и сильный апоплексический удар, что он вскоре скончался на руках испуганных советников, и, таким образом, его жизнь оборвалась в неполных сорок восемь лет без одиннадцати недель при исполнении им своего служебного долга…»
Познал огонь и меч, прошел сквозь страх и муку,
В отчаянье стенал над сотнями могил.
Утратил всех родных. Друзей похоронил.
Мне каждый час сулил с любимыми разлуку,
Я до конца постиг страдания науку:
Оболган, оскорблен и оклеветан был.
Так жгучий гнев мои стихи воспламенил.
Мне режущая боль перо вложила в руку!
— Что ж, лайте! — я кричу обидчикам моим.
Над пламенем свечей всегда витает дым,
И роза злобными окружена шипами.
И дуб был семенем, придавленным землей…
Однажды умерев, вы станете золой.
Но вас переживет все попранное вами!
Андреас Грифиус. «Последний сонет»
Главу эту следует, пожалуй, с самой Фортуны и начинать.
Фортуна помещена в центр своего колеса, в руках держит свитки, где все и предначертано, — судьбы.
На вершине колеса в глупом самодовольстве — человек в короне, со скипетром, над ним начертано слово regno — царствую, правлю. Справа от него карабкается к вершине колеса будущий удачник с лицом, исполненным вожделения: regnabo — буду править!.. Слева — по ходу вращения колеса — уже летит вниз тот, к кому относится regnavi — я правил. В самом низу, сброшенная колесом, лежит фигура поверженного: sum sine regno отцарствовал.
Рисунок «Колесо Фортуны» выполнен цветной тушью, им открывается рукопись сборника поэзии вагантов, который в 1803 году при секуляризации церковных земель обнаружили в баварском монастыре Бенедиктбейерн: пролежала она в тайнике шестьсот лет.
Слезы катятся из глаз,
арфы плачут струны.
Посвящаю сей рассказ
колесу Фортуны.
Над словами невмы — нотные знаки, подобия ударений.
По названию монастыря сборник назвали «Carmin Burana».
Выпала мне судьба: с Фортуной, с колесом судьбы встретиться.
Лирику вагантов я начал переводить в 1967 году, внутренне даже этому противясь. Отпугивало меня то, что там в основе латынь, какими-то грамматическими упражнениями отдавало, не мог к немецкому началу пробиться, да и все эти слова: «веселие», «питие», «братия, возрадуемся!», которые лезли на меня из комментариев и статей, из обрывочных, для хрестоматий сделанных чужих переводов, угнетали книжностью. Все было пылью присыпано: «обличие папской курии», «земные, плотские радости», «приятие жизни». Какое уж там приятие, если, например, читал в хрестоматии Шор в переводе Осипа Румера:
Осудивши с горечью жизни путь бесчестный,
Приговор ей вынес я строгий и нелестный.
Создан из материи слабой, легковесной,
Я — как лист, что по полю гонит ветр окрестный…
Нет, мертвое все это было. Не мое. Чужой пир. Книжный.
И вдруг вник в немецкий текст, затем в латинский:
С чувством жгучего стыда
я, чей грех безмерен,
покаяние свое огласить намерен.
Был я молод, был я глуп,
был я легковерен,
в наслаждениях мирских
часто неумерен…
Предшественник переводил:
Мудрецами строится дом на камне прочном,
Я же легкомыслием заражен порочным.
С чем сравнюсь? С извилистым ручейком проточным,
Облаков изменчивых отраженьем точным…
Я спорил, давал свою версию:
Человеку нужен дом,
словно камень прочный,
а меня судьба несла,
что ручей проточный,
влек меня бродяжий дух,
вольный дух порочный,
гнал, что гонит ураган
листик одиночный…
Из тьмы в семь веков поманил меня к себе король бродячих поэтов клириков и школяров — Архипиит Кёльнский. В семивековом отдалении, глухой, темный как ночь, виделся мне монастырь Бенедиктбейерн. Узилище, в которое заточили великую рукопись.
Шли, шли ко мне оттуда те песни.
Выходи в привольный мир!
К черту пыльных книжек хлам!
Наша родина — трактир.
Нам пивная — божий храм.
Горланили, ревели:
Ночь проведши за стаканом,
не грешно упиться в дым.
Добродетель — стариканам,
безрассудство — молодым!..
Сначала воспринимал я это как хор.
Именно в ту пору услышал я кантату Карла Орфа «Carmina Burana»: три хора — мужской, женский, детский — вздымали голоса к небу, светло пели солисты, все гремело, било в барабаны, в тамтамы, в литавры, в тарелки, звенели колокольца и колокола.
О Фортуна!..
Нет, не только веселье, не только удаль, другое: над весельем, над удалью, над бесшабашностью, над жалобой и плачем, надо всем — Фортуна. Судьба. Рок. Как еще повернется колесо?
Испытал я на себе
суть его вращенья,
преисполнившись к судьбе
чувством отвращенья.
Мнил я: вверх меня несет!
Ах, как я ошибся,
ибо, сверзшийся с высот,
вдребезги расшибся
и, взлетев под небеса,
до вершин почета,
с поворотом колеса
плюхнулся в болото…
Переводил — не думал, что о себе. Не думал, что упаду, что сбросит меня. Меня-то не сбросит. Других сбрасывает, вот они и лежат внизу на рисунке тушью. А я удержусь…
Были 1967–1968 годы, для меня время больших удач. Я поехал в Мюнхен, где чудом, как во сне, одна за другой удались мне фантастические потусторонние встречи; в архивах, в библиотеках сами как бы шли ко мне в руки редкие тексты вагантов. И дома, в Москве, все было хорошо. Даже трагические стихи хорошо переводить, когда все в порядке… И лишь изредка посматривал я на того, кто в самом низу, под колесом…
Вот уже другого ввысь
колесо возносит.
Эй, приятель! Берегись!
Не спасешься! Сбросит!..
И вдруг вопросец, тайный вопросец в меня закрался. Хитрый вопросец. Корыстный. «А вновь на колесо Фортуны тем, кого сбросило, забраться можно? Возможна еще одна попытка? Или только раз, всего один раз прокатиться можно?.. Или — еще, еще раз позволят тебе взять билет на колесо Фортуны, как на „колесо обозрения“ в парке культуры?..»
Не знал я тогда, что задаю вопрос вопросов. Величайший вопрос…
Перечитывал я в то время Книгу Иова. Бог, который, испытывая праведного Иова, лишил его богатства, стад, родных детей, покрыл проказой, сжалился над ним и дал ему больше, чем было взято: верблюдов, волов, ослиц. И детей дал: семь сыновей и трех дочерей-красавиц. Но ведь других детей дал. Других! А те, которых взял, заменяемы ли? Все ли возместить можно?.. Сколько проживает человек жизней?..
Вертелось колесо Фортуны.
Пел хор.
«Ваганты» по-русски означает «бродячие». Этих людей магически тянуло из университетских и монастырских келий плечами ощутить широту, простор мира. Они шли, смотрели, осмысляли увиденное. Пели.