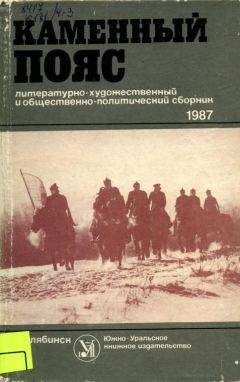Морозов с Тутыниным, выслушав приговор, прощально посмотрели друг другу в лицо. Затем Морозов дернулся, будто сбрасывал груз с плеч, выпрямился и крикнул:
— Товарищи! Мы умираем за лучшую долю, за нашу народную власть…
— На том свете черт тебе товарищ, — прошипел скотопромышленник Степанов и ударил Морозова плетью. — Бей его, гада!
К Морозову подскочили охранники, сбили с ног. Толпа сжалась, глухо зароптала, послышались всхлипывания баб.
— Давай скорей! Чего рты раззявили! — заорал на охранников Сучков.
Охрана засуетилась, и вскоре арестованные уже висели на осинах.
Василий с Федором выехали домой.
— Ну, Федор, дай бог убраться по добру, по здорову, — печально сказал Василий. — Нечего сказать, побазарничали…
При выезде — снова встретили верховых, тех самых, с которыми повстречались на первом пути. Впереди устало шагали пять мужиков со связанными руками. Сзади постукивали колесами три груженых телеги.
— Грабят, вешают без суда, — сказал Василий. — Ох и житуха, Федор.
Федор долго молчал. Уже когда подъезжали к своей деревне, сказал:
— Ты как знаешь, Василий, а я подамся в Верхнюю Течу, к Анчугову.
* * *
После сходки притихло Гнутово. Но это была обманчивая тишина. Все жили в напряжении, томительном ожидании. Деревня походила на пересохший стог сена: поднеси огоньку — заполыхает.
Как-то под вечер к Федору Уфимцеву приехал из деревни Чудняково Алексей Павлович Мотовилов. Алексей с Федором дружили, были дальними родственниками. Пригласили Василия Пьянкова и братьев Толстиковых.
Мотовилов состоял в партии большевиков, хотя об этом мало кто знал. После разгрома белочехами Челябинского горкома и Совета, казни их руководителей Челябинская партийная организация ушла в подполье. Подпольщики установили связи с оставшимися на свободе коммунистами, готовились к созданию подпольного горкома. У Алексея Павловича сохранились связи с Соней Кривой, бывшим работником горкома. Он только что вернулся из Челябинска, знал о положении в Уральской области и в стране.
Жаркий июльский день подходил к концу. Мужики разместились в завозне[1], где было попрохладней, пахло свежими вениками. Сидели за столом, на котором стояла кое-какая закуска, шипел самовар.
Алексей Павлович рассказывал. Мужики слушали, запивали худые вести чаем, заваренным из трав. Положение республики было отчаянное. В Челябинске, Кургане, Омске хозяйничают белочехи. В начале июня Дутов овладел Оренбургом, интервенты захватили Уфу. Железнодорожная магистраль от Волги до Иркутска с прилегающими районами — в руках контрреволюции. В Москве подняли мятеж левые эсеры, белогвардейцы — в Ярославле. Главнокомандующий Восточным фронтом левый эсер Муравьев с группой приближенных изменил революции. С юга республике угрожают беляки, с запада — немцы, с севера — англичане. Москва и Петроград — на голодном пайке.
Но выстоять надо. В промышленных центрах спешно формируются пролетарские полки и отряды — рождается Красная Армия.
— Совет Народных Комиссаров, — неторопливо говорил Мотовилов, — обратился ко всему трудовому народу. Призывает нас громить белогвардейские банды. Сам товарищ Ленин обращение подписал. Своими глазами газетку у Сони Кривой видел. Определяться нам надо.
— Не раз судили, — заговорили мужики. — Ячменевские дружки вон в белогвардейскую дружину подались.
— Я в Верхнюю Течу к Анчугову в отряд надумал, — сказал Федор Уфимцев. — А Павел Устьянцев к Томину в Троицк ушел. Да слышал я, будто беляки захватили Троицк?
— Захватили. Недели три уже прошло, — ответил Мотовилов. — Но Томин увел отряд в Белорецкий завод, к Блюхеру. Там целая партизанская армия. А ты, Василий, куда надумал? — спросил он Пьянкова.
— А куда торопиться? — ответил за него Петр Толстиков. — Не шибко ласкала нас Советская власть. Больше о батраках пеклась. Богатеев, конечно, прижали. А куда нам, середине, податься? Ума не приложу.
Толстиков явно ждал ответа. Пьянков сидел, опустив голову. Уфимцев выжидал, что скажет в ответ Мотовилов.
— Местные головотяпы тут напутали, — Алексей Павлович наклонился к Толстикову. — У Ленина сказано: «Союз рабочего класса с крестьянством».
— С беднейшим крестьянством, — поправил его Пьянков. — Сам же мне программу читал, Алексей Павлович.
— Выходит, мы ни богу свечка, ни черту кочерга, — со злорадством сказал Толстиков.
Засиделись. На все доводы Мотовилова Петр Толстиков высказывал свои. Остальные больше молчали. Когда совсем свечерело, ушли Толстиковы. Засобирался домой Мотовилов.
Пьянков в ту ночь долго не мог заснуть. Тягучие думы набегали одна на другую. «Может, уйти все же с Федором в Верхнюю Течу? — роились мысли. — Уйдешь. А как вернешься? Советам-то и впрямь крышка. Сила-то у беляков вон какая. Да и Дашутка тут».
* * *
Отряд Анчугова, 282 пехотинца и 25 кавалеристов, влился в 4-й Уральский полк в Далматово. Состоял полк из добровольцев-рабочих, вернувшихся с фронта солдат, военнопленных венгров. Взводом слушателей курсов советских землемеров командовал учитель из Верхней Течи Шумилов[2].
После неудавшегося наступления на Шадринск, в котором Уфимцеву пулей легко задело левое плечо, командиром полка избрали Анчугова. Главный бой за Далматово полк принял 11 июля. Вначале белогвардейцы чуть не овладели вокзалом, но когда командование ввело в бой резервы, атаку отбили. Это была первая победа, хотя полк и понес потери: ранен Анчугов, убит его заместитель Харитонов. Но победа эта не могла изменить общей обстановки на фронте. Белогвардейцы и чехи наступали на всех направлениях, все туже стягивали кольцо вокруг Екатеринбурга. В самом городе монархическое подполье готовило нападение на дом Ипатьева, где находился под охраной бывший император Николай II с семьей.
* * *
Вставать Василию не хотелось. А голос матери не давал покоя:
— Вась, вставай, светает. Поди посмотри скотину, управься, не могу что-то я, поясницу переломило.
Василий сладко потянулся, открыл глаза. В окна пробивался новый день. В его сумеречном свете, казалось, остановилась жизнь, от которой ждал многого. «Остаешься хозяином». Вспомнил прощальные слова отца. Как-то сразу унесло сон, и он прыгнул с полатей, быстро оделся и тихонько прикрыл за собой дверь.
За ночь подморозило. Ледяная корочка лопалась под ногами. Из далекой высоты задорно подмигивали звезды.
В пригоне было темно. Направо — пустой сенник, там делать нечего. Налево, у стены, — Пегуха, за навозной кучей в дальнем углу — корова. Там же овцы.
Василий обшарил руками Пегухину колоду, на самом дне нащупал несколько будыльев не то лебеды, не то полыни. И ему стало жаль и себя, и Пегуху, которая тыкала его мордой, словно хотела сказать: «Вот, смотри, как тут мне приходится. Я разве такое заслужила?» Он обхватил Пегуху за шею, прижался щекой к ее морде и зашептал:
— Знаю, все знаю, милая. А мне-то, думаешь, легше?
Пегуха мотнула резко головой, стараясь избавиться от Васильевых ласк, шумно вздохнула: «Слышала все это я от отца еще твоего. Сам-то убрался, а тут майся». Она переступила, отодвигаясь к стене.
Василий постоял в задумчивости, послушал мерное дыхание лошади и коровы, пошел добывать корм.
Весна, видно, пожалела Пьянковых. На гумне он обнаружил одонки от соломенного стожка. И теперь каждое утро ходил сюда с мешком.
Пока набивал мешок, разогрелся, присел отдохнуть. Кровяным лоскутом глянула на него восточная кромка неба. Полоска ширилась, поднималась ввысь, сдвигая звезды, меняла очертания изб и сараев. Где-то в лесах шел брачный глухариный пир. На его зов из села откликались петухи.
Но все эти звуки и краски были далекими, не захватывали Васильевых чувств. Он думал о другом. Об отце и брате, которых еще осенью прошлого года с конями забрали колчаковцы в подводчики. Где они? Живы ли? Похоже, что нет. Прошла зима: ни слуху ни духу. Надвигается сев. А где семена? Бесконечные поборы белогвардейцев очистили мужицкие амбары. Ладно хоть сам уцелел. Если бы не болезнь, мыкался бы где-нибудь. А может, и голову сложил.
В памяти встала картина минувшей осени. В Гнутово нагрянул карательный отряд белогвардейцев. Подъехали к дому Пьянковых.
— Эй, борода, подойди! — окликнул отца начальник отряда.
— Чего изволите, ваше благородие?
— Сейчас же запрягай пару лошадей. Поедешь в Шумиху.
— Не могу, ваше благородие, лошадей нет.
— Врешь! Ты — коммунист! Выпороть!
Тут же выволокли отца на улицу и запороли бы насмерть, не подойди Ячменев. Он уговорил начальника сжалиться над стариком. Терентия, изрядно исхлестанного, отпустили, но приказали немедленно собираться в подводчики.
Василий тогда болел, — простудился во время обмолота, — но в окно видел расправу над отцом и односельчанами. Когда у соседа напротив стали выгребать из амбара зерно, он крикнул: