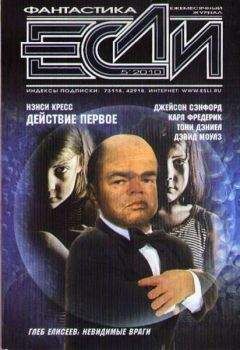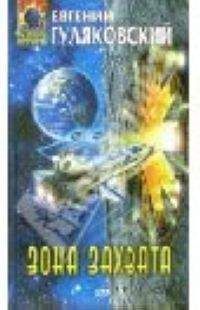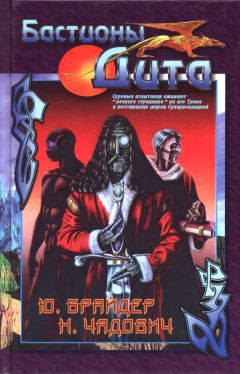— Но он не помнит о ней каждую секунду. Не тревожится из-за нее.
— Молодчина. — Отец костяшками пальцев выбил на мраморной столешнице дробь, подчеркивая свое одобрение. — Мы подбираемся к подлинному существу вопроса. Почему? Почему не тревожится?
— Это осложняет жизнь?
Отец покачал головой.
— Ладно. Давай так. Мысленный эксперимент. Допустим, я иду к нему, протягиваю револьвер и убеждаю, что играть в русскую рулетку не менее приятно, чем курить. Решится он сыграть?
Я опять посмотрела на мужчину. Неловко переминаясь с ноги на ногу и ожесточенно затягиваясь, он глазел на уличное движение.
— Нет, — ответила я. — Конечно, нет.
— Испугается рулетки?
— Да.
— В чем отличие? Шансы равны. Или их можно уравнять.
— В сроках.
— В сроках! Для этого человека будущее — отвлеченное понятие. Он не в состоянии принудить себя беспокоиться о грядущем, потому что сердцем, нутром, подкоркой понимает: для него оно призрачно. Будущие события чересчур далеки, чтобы наделять их значением. Экономисты даже придумали название этому явлению — «экспоненциальное обесценивание».
Я снова взглянула на отца. Он пристально, сосредоточенно смотрел на меня. Потом чуть наклонился вперед и понизил голос:
— Вот чем мы отличаемся от них. — Небрежным взмахом руки он обвел проезжавшие мимо автомобили, весь Манхэттен, чтобы я поняла: «они» относится ко всем, кто не «мы». — Для нас будущее — реальность. Реальный мир. И он нам небезразличен.
Я решила, что речь о нашей семье: мол, вот какие мы с тобой исключительно чуткие и заботливые ребята. Так я посеяла крупицу неведения и лелеяла ростки. До поры.
— По-твоему, мы лучше их? — с подростковой язвительностью спросила я.
— Нет-нет. Не лучше. Доброты, ума, бескорыстия и способности к сопереживанию у нас не больше, чем у прочих. Ничего подобного. Никаких необычайных добродетелей. Только одно: нам небезразлично будущее — то, которое они назвали бы «далеким». И о котором не пекутся. Не могут. — Он выпрямился. — Вот почему то, в чем мы ясно усматриваем близкую и несомненную опасность, сродни игре в русскую рулетку, им представляется эфемерной тенью угрозы. Как дым.
Мужчина на другой стороне улицы бросил окурок на землю, притоптал и вошел в стеклянные двери. Отец хмыкнул:
— Разумеется, еще и пачкун! Будущее — это, ко всему прочему, место, где бесследно исчезнут его помои.
* * *
— Что за помои вы туда льете?
На экране я подсоединяла шланги, снова и снова. Заломленные за спину и задранные на крюк руки не давали мне обернуться и посмотреть на истязателя. Мешали плечи. Я, как смогла, повернула голову. Чуть-чуть.
— Что?..
Он вытянул меня прутом пониже спины. Тело располосовали хрустальные пластины острой боли.
— О господи, не надо, — всхлипнула я. — Пожалуйста. Прошу вас.
Он подступил почти вплотную. Я почувствовала тяжелый запах его одеколона, жар тела и тепло дыхания на своем плече, когда он проговорил:
— Вы приказали своим людям в течение двух дней нагнетать в разведочную скважину холодную воду. А потом…
— Я брала пробы на обсемененность. Сейчас все так делают. Раньше в скважины закачивали кипяток. — Я сглотнула. — Для извлечения смолистой нефти… И все микробы гибли. Надо впрыскивать холодную воду. Вот… — Я выпятила подбородок в сторону экрана, стараясь показать. — Такая схема подразумевает внесение водородообразующей флоры. Чтоб увеличить местную популяцию и исследовать ее.
Повисло долгое молчание. Я ждала удара прутом. Ничего не происходило. Я различила слабое, далекое жужжание. И внезапно поняла, что американец слушает другой голос. Через гарнитуру или наушники.
Наконец он сказал:
— Никто, кроме вас, не применяет такую методику.
— Это мое детище, — торопливо пояснила я. — Собственная разработка. До сих пор никому не удавалось выделить разлагающие нефть культуры. Вы подметили верно: бактерии берутся словно из ниоткуда. Я предположила, что при обычном заборе проб мы, вероятно, убиваем микрофлору возле бура. И потому не можем выявить инфекцию; образцы для проверки поступают из скважины обеспложенные — мы сами их стерилизуем. Возможно, бактерии объявились не вчера, просто прежде нам не удавалось корректно провести анализ.
Вновь затяжная пауза. Я смотрела бесконечный повтор фильма о себе. Вот я подсоединяю шланг. Проверяю. Подсоединяю шланг. Проверяю. Подсоединяю. Проверяю…
В поле зрения неожиданно мелькнули руки. Загорелая кожа, грубо обрезанные ногти, короткие пальцы. Я вдруг заметила, что на правом мизинце недостает первой фаланги. Но приглядеться и убедиться не успела: в следующее мгновение мне на голову вновь напялили мешок.
— Вы опять лжете, — сказал американец. — И крикнул кому-то: — Доску!
* * *
— Доску брать?
Дядя замялся.
— Если хочешь.
Я выдернула из песка свою доску для серфинга и зашагала по пляжу. Высокие волны дробились о калифорнийский берег, резкий теплый ветер осыпал нас мелкими золотистыми песчинками. Дядя скинул ботинки, сунул внутрь носки, бросил в сторону пляжного домика. И потрусил мне вдогонку.
Дядя Дэвид был высокий, с жесткими руками и двигался, как кошка. Когда он приезжал в Маррионовский интернат, мне страшно нравилось, что другие ученики косятся на него с легким испугом. Но я его не боялась: это же был дядя Дэвид.
Тогда. А теперь я, студентка колледжа и сама себе хозяйка, пыталась наслаждаться каникулами. Мы со Стивом, славным пареньком с математического, на неделю сняли в складчину домик на пляже. Сейчас Стив с доской под мышкой стоял у границы прибоя, глядел нам вслед и недоуменно хмурился.
— Не понимает, — сварливо сказала я, четко давая дяде понять, кого считаю виновником разлада. — К другим ребятам из универа, знаешь ли, в весенние каникулы не приезжают дядюшки для частных бесед.
— Ты себя с другими не равняй.
Я возмущенно фыркнула сквозь зубы.
— Когда мне было столько, сколько тебе сейчас, — заметил дядя, показывая на море, — песка тут было гораздо больше. Вода поднялась и незаметно отобрала солидный кусок берега. Теперь здесь похоже на Флориду.
— То ли еще будет, — предрекла я.
Он кивнул. Некоторое время мы брели по пляжу, увязая в горячем песке, а потом дядя Дэвид сказал:
— Насколько я понимаю, ты идешь на диплом с отличием. В Стэнфорде по двум специальностям это достижение.
— Стэнфордские высшие баллы ничего не стоят.
— Не по математике и геологии.
— Даже по математике и геологии.
Он улыбнулся.
— Прибедняешься. Вся в отца. Он никогда не умел принимать комплименты.
— Я больше похожа на маму.
— Согласен, болезненно острое чувство справедливости ты унаследовала от Дженет. — Дядя с ухмылкой оглянулся через плечо. — Она бы непременно одобрила трепетного юношу вроде этого Стива… Но когда-нибудь ты признаешь, что я был прав и в тебе больше отцовского.
Он осмотрелся. Мы были одни.
— Давай присядем.
Я воткнула доску, мы уселись и стали смотреть, как разбиваются на песке волны. Соленый запах моря по-прежнему был для меня в новинку и пока не приелся. Я вертела на запястье тяжелый золотой браслет и ждала.
— Ты до сих пор его носишь. — Он улыбнулся.
Я кивнула.
— Зачем ты приехал, дядя?
— С удовольствием сказал бы «просто поглядеть на тебя»…
— …да честность не позволяет.
Он рассмеялся.
— Я еду в Долину по делам.
— Папиным?
— Других у меня не бывает. А сюда заскочил, потому что хотел повидаться с тобой наедине, без ведома остальных. В Стэнфорде меня могли бы заметить.
— Зачем?
— Допустим, я хочу, чтобы ты рассказала мне про экосистему нефтяных пластов.
— Что?
Он отряхнул брюки от песка.
— Сделай милость. Коротенько.
Я смотрела ему в глаза, силясь понять, что это за диковинная просьба. Может, он шутит.
Покинув странно замкнутый мир Маррионовской школы ради учебы в Стэнфорде, я мало-помалу осознала, что этот мой дядюшка — загадка. Я много раз «гуглила» его и выяснила, что когда-то давно он был известным политиком и даже — недолго — поэтом, а затем «испарился»: все последние ссылки были двадцатилетней давности, не меньше. Самые отъявленные домоседки и те чаще проявлялись во Всемирной паутине. Я не представляла, чем он занимается, почему щеголяет в костюмах и вид у него зловещий или почему я зову его дядей.
— Сделай милость, — повторил он. — Расскажи про мета-что-то бактерий и… как их там… водниц.
Я ухватила пригоршню песка и просыпала себе на ноги.
— Глубоко под землей существует целая микробиологическая экосистема. В нефтеносных отложениях. Множество разнообразных бактерий питается нефтью или другими микроорганизмами, живущими за ее счет.