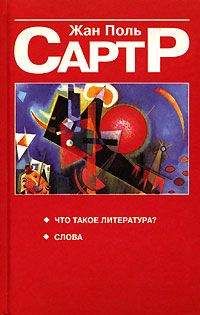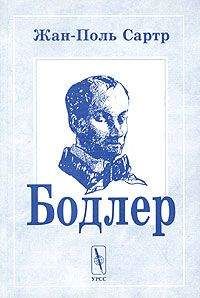Потом появляются критики и для своего удобства пытаются собрать все эти разноречивые концепции. Критики придумывают понятие "послания". Все для них является посланием. Существует послание Жида, Шамсона, Бретона. Безусловно, эти писатели не собирались так говорить. Это критики заставили их это делать. Из этого появляется новая теория. В шатких произведениях, которые готовы разрушиться сами по себе, где слово – только неуверенный проводник, все время останавливающийся и предоставляющий читателю идти дальше одному. У них истина находится вне языка, в малопонятном молчании. А самым важным всегда оказывается то, что невольно привносит писатель. Произведение можно считать прекрасным только когда оно ускользает от своего автора. Если он пишет о себе без предварительного плана, а персонажи выходят из-под его контроля и поступают по-своему, слова у него обладают известной независимостью, то только тогда писатель создает свое лучшее произведение.
Буало был бы поражен, если бы прочел суждения наших критиков: "Автор слишком уверен в себе, он излишне проницателен, слова появляются у него слишком легко, он полностью контролирует свое перо, сюжет не властвует над ним".
К сожалению, в этим согласны все. Присоединившиеся считают поэзию квинтэссенцией произведения, то есть это нечто запредельное. Иногда они незаметно заменяют поэзию на то, что ускользает от самого автора – часть Дьявола. Автоматическое письмо единственный приемлемый для сюрреалистов способ. Однако, его отрицают радикалы, после Алена они больше не утверждают, что книга не может считаться завершенной пока не станет коллективным представлением, согласно этому представлению, смысл, вложенный в нее поколениями читателей, бесконечно ее обогащает, по сравнению с тем, что некогда появилось на свет. Эта верная мысль подчеркивает роль читателя в создании произведения, но в те годы она породила путаницу.
Объективный миф, рожденный всеми этими противоречиями, гласит, что каждое произведение, прожившее достаточно долго, имеет свою тайну. Это вовсе не секрет мастерства, тайна начинается там, где кончаются технические приемы и сознательные намерения автора, некий луч падает сверху и отражается в книге, дробясь, как солнечный свет в водной струе. Можно сказать, что от чистой поэзии до автоматического письма литературе был присущ платонизм. В эту мистическую, вернее, в псевдомистическую эпоху, господствующее течение влекло писателя к самоотречению ради творчества, подобно тому, как политическое течение влечет к отречению ради партийных интересов.
Есть свидетельства, что Фра Анжелико писал свои картины, стоя па коленях. Если считать его заслуживающим доверия, можно заметить, что многие писатели заняты тем же. Они даже идут дальше, они верят, что такой позы достаточно, чтобы писать хорошо.
Мы протирали штаны на скамьях лицея или в амфитеатре Сорбонны, а густая тень потустороннего уже легла на литературу. Познав горький, обманчивый вкус недостижимого, вкус нереальной чистоты, мы ощущали себя то неудовлетворенными и разочарованными, то своего рода Ариэлями потребления. В первом семестре мы свято верили, что искусством можно спасти свою жизнь, во втором оказывалось, что уберечь себя невозможно, что искусство – всего лишь наглядный итог свершившейся гибели. В таком духе мы ходили взад-вперед по натянутой проволоке между ужасом и риторикой, между литературой-великомученицей и литературой-ремеслом. Всякий, кто вознамерился бы ради праздного любопытства ознакомиться с нашими опусами, обнаружил бы на исписанных страницах следы разного рода искушений, похожие на телесные рубцы. Но это только пустая потеря времени. Все это уже очень далеко от нас.
Только в процессе творчества писатель понимает, как нужно писать. Общество живет литературными приемами прошлых поколений. Критики, осознавшие их через двадцать лет, с радостью начинают пользоваться ими как пробным камнем при оценке современных произведений.
Литература в период между двумя войнами существует кое-как, изжив себя. Стенание Жоржа Ба-тайя о невозможном не стоят и словечка сюрреалистов, его теория растраты – только слабое эхо прошедших пиршеств. Леттризм просто заменитель, плохое и осознанное подражание дадаистам. Только без души и с явным старанием угодить. С Аленом-Фурнье не сравнить ни Андре Дотеля, ни Мариуса Гну. Довольно много бывших сюрреалистов вступили в ФКП. Это напоминает сен-симонистов, которые в 1880 году вступили в административный совет крупной промышленности. Реальной конкуренции не имеет Кокто, Мориак, Грин. У Жироду их было множество, но все серенькие. Замолчали почти все радикалы. Причина этого в разрыве не между автором и читателями, это соответствовало бы традиции литературы XIX века. Истинная причина в разрыве между литературным мифом и исторической реальностью. Этот разрыв мы хорошо почувствовали до своих первых публикаций, в 1930-е годы.
Именно в это время большинство французов вдруг осознали свою историчность. Конечно, они знали из школьного курса, что человек играет, выигрывает или проигрывает в русле всеобщей истории. Но никто это не принимал на свой счет. Все полагали, что термин "исторический" относится только к мертвым. В человеческих жизнях прошлого всегда удивляет именно то, что они проходили всегда перед великими событиями, которым суждено обмануть ожидания, сломать все планы и обрушить на прожитые годы новый день. Это воспринимается как некоторый обман, жульничество, словно все люди такие, как Шарль Бовари. Он, обнаружив после смерти жены письма от ее любовников, понимает, что рухнули за его спиной двадцать прожитых лет семейного счастья. В век авиации и электричества мы и не предполагали, что нас ждут такие сюрпризы. Никто не осознавал, что находится накануне чего-то. Все наоборот. Мы неосознанно гордились тем, что живем на другой день после последнего исторического потрясения. Даже если нас иногда беспокоило новое вооружение Германии, мы полагали, что находимся на длинной прямой дороге. Не сомневались в том, что наши жизни будут состоять только из личных обстоятельств и отмечены вехами научных открытий и успешных реформ.
С 1930 года мировой кризис, приход к власти нацизма, события в Китае, война в Испании вдруг разбудили нас. Было такое ощущение, что земля пошатнулась у нас под ногами и великие исторические катаклизмы затронут и нас тоже. Вдруг выяснилось, что начало великого мира на земле было только промежутком между двумя войнами. В любом принятом нами обещании нужно было видеть угрозу. Каждый прожитый день открывал свое настоящее лицо. Мы доверчиво проживали его, а он приближал нас к новой войне, с невидимой быстротой, с неумолимостью, скрытой под маской беспечности. Наша частная жизнь, казалось бы, зависящая от наших yси-лий, наших достоинств и ошибок, нашего успеха и поражения, от доброй или злой воли довольно oг-раниченного круга людей, оказалось, даже в деталях зависела от темных коллективных сил. В любом событии частного характера, в ее самых личных происшествиях отражалось состояние всего мира.
Вдруг оказалось, что мы не можем больше парить над реальностью, как любили делать наши предшественники. Есть препятствия, которые просматривались в будущем и которые не позволяют нам это делать. Это дало возможность позже определить исторические границы нашего поколения с его Ариэлями и Калибанами. Нечто подстерегало нас в неизвестном будущем, что-то, что позволит нам понять самих себя, быть может, во вспышке последнего мига, перед нашим уничтожением. Суть наших поступков и нашего самого интимного общения находилась где-то перед нами, в катастрофе, с которой будут связаны наши имена.
Историчность вдруг охватила нас. Буквально во всем, с чем мы соприкасались, в воздухе, который вдыхали, в прочитанной странице, в написанной странице, даже в любви, мы чувствовали какой-то привкус истории. Терпкую смесь абсолютного и преходящего. Нам не нужно было терпеливо создавать саморазрушающиеся объекты, если каждый миг нашей жизни потихоньку крали у нас, пока оно длилось. Если любое сейчас, которое мы проживали в страстном порыве как абсолют, было отравлено обычной смертью. Оно для других глаз, еще не увидевших света, имело смысл прошедшего именно в своей сиюминутности. Нас совершенно не трогало сюрреалистическое разрушение, не изменявшее ничего, когда разрушение огнем и мечом угрожало всем и всему, в том числе и сюрреализму.
Миро написал картину "Разрушение живописи". А зажигательные бомбы могли уничтожить и живопись, и ее разрушение. Нам было не до восхваления изысканных буржуазных добродетелей. Это можно делать, когда ты уверен в их вечности. Но мы не были даже уверены в завтрашнем существовании самой французской буржуазии. Мы не могли, как радикалы, учить людей прожить мирную жизнь порядочного человека – ведь нас больше всего заботило, можно ли быть человеком на войне.