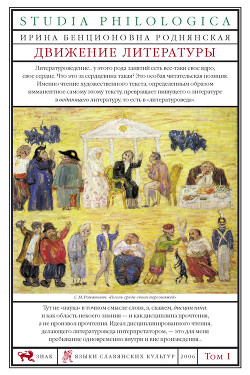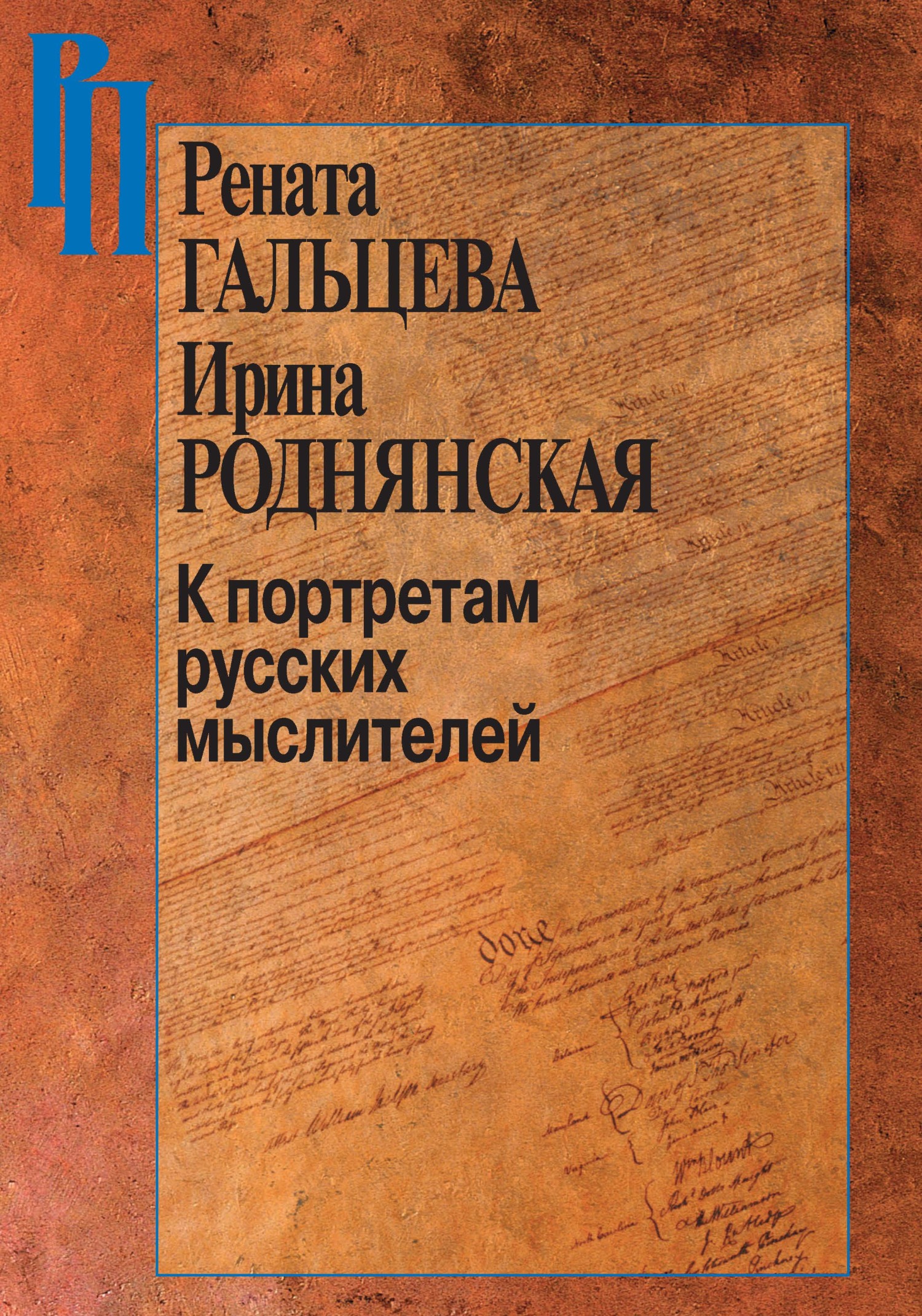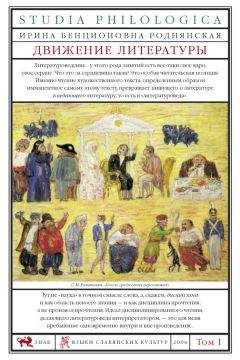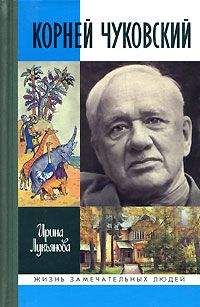А в чем «тайна первого шага»? Достоевский отвечает: «В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда как настоящая свобода – лишь в одолении себя и воли своей, так чтоб под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином… Но чистые сердцем подымаются и в нашей среде – и вот что самое важное! <…> А чистым сердцем один совет: самообладание и самоодоление прежде всякого первого шага. Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять, – вот в чем вся тайна первого шага». Главка из «Дневника писателя за февраль 1877 года, откуда взяты эти слова, называется «Русское решение вопроса».
Проповедь «первого шага» – это проповедь движения неспешного, терпеливого, иногда как бы не в ногу с угрозой гибели, которая ждать не станет. Ведь вот Достоевский советовал все это, когда, по его же словам, «приготовлялись сроки чему-то вековечному, тысячелетнему» и вся Россия стояла «на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной». И впрямь, скоротечные, взрывные процессы встряхнули и сбили опару, не дали закваске взбродить, обогнали и заглушили его проповедь, хотя она и имела влияние на молодое поколение. Тем не менее это не должно смущать. Первый шаг – то, что зависит от человека, от его доброй воли. Остальное не в его власти. Нужно делать то, что зависит от нас. Чрезвычайные меры – всегда проективные, а «первый шаг» – творческий. В обоих случаях, правда, человек одинаково не знает, к чему его действие приведет. Но первое сулит ему неожиданность разочарования, ибо реализованная задачка обыкновенно не сходится с запланированным ответом. А второе – неожиданность роста, развития; в семени заключено целое дерево, но оно не похоже на семя, из которого вырастает, и в этом – Нечаянная Радость.
«Белая лилия» как образец мистерии-буфф К вопросу о жанре и типе юмора пьесы Владимира Соловьева
О смехе Владимира Соловьева столько наговорено, что хватило бы на целую антологию с физиологическим, психологическим и метафизическим разделами. А. Ф. Лосев в своем прощальном труде о Соловьеве выделяет этот смех как самостоятельную проблему и дает ему поистине апофатическое определение: не-, не-, не-. «Смех Вл. Соловьева очень глубок по своему содержанию… Это не смешок Сократа, стремившегося разоблачить самовлюбленных и развязных претендентов на знание истины. Это не смех Аристофана или Гоголя, у которых под видом смеха крылись самые серьезные идеи общественного или морального значения. И это не романтическая ирония, когда у Жана Поля (Рихтера) над животными смеется человек, над человеком – ангелы, над ангелами – архангелы, а над всем бытием хохочет абсолют, который своим хохотом и создает бытие и его познает. Ничего сатанинского не было в смехе Вл. Соловьева, который по своему мировоззрению – все-таки проповедник христианского вероучения. И это уже, конечно, не комизм оперетты или смешного водевиля. Но тогда что же это за смех?» [131]
Однако, если перейти от «апофатики» к «катафатике», радикальное «не» раскрывает себя на деле в целом ряде положительных «и», «и», «и», не совмещаясь полностью ни с одним из определений:
«… Детский, иногда неудержимый смех с неожиданными, презабавными икающими высокими нотами – смех человека с чистой совестью, не пресыщенного суетными радостями, всю жизнь посвятившего труду и молитве и потому с особенной свежестью чувства умеющего отдаваться минутам невинного веселья» (биограф Соловьева В. Л. Величко).
«… Ехидный смех, в котором слышались иногда недобрые нотки, точно второй человек смеется над первым» (он же).
«… Этот его смех, странный, дикий, но такой заразительный и искренний, как бы было то, что соединяло его с людьми, с толпой, с землей» (К. М. Лопатина, в замужестве Ельцова).
«… Звонкий, несколько демонический смех, так не гармонировавший с его загадочным взором, таинственно полуприкрытым веками и лишь иногда открывавшим свой неземной блеск» (В. А. Пыпина-Ляцкая).
«Воистину пугал этот хохот; если в аду смеются, то не иначе» (С. К. Маковский, известный впоследствии как редактор «Аполлона»). [132]
«… Здоровый олимпийский хохот неистового младенца, или мефистофельский смешок хе-хе, или то и другое вместе» (племянник и авторитетный биограф Владимира Сергеевича С. M. Соловьев). [133]
Сам Соловьев, как хорошо известно из лекции, прочитанной им в январе 1875 года на женских курсах Герье и переданной в записи Е. М. Поливановой, определял человека как «животное смеющееся». «Человек рассматривает факт, и если этот факт не соответствует его идеальным представлениям, он смеется. В этой же характеристической особенности лежит корень поэзии и метафизики». И несколько ниже – совсем уж драстическое заявление: «Поэзия вовсе не есть воспроизведение действительности, – она есть насмешка над действительностью». [134]
Из этого пассажа, несомненно принципиального, можно сделать два вывода. Видимо, черты, подмеченные в Соловьеве как бы порознь его младшим другом Е. Н. Трубецким: «необычайно интенсивное восприятие мировых противоположностей» (в чем автор очерка о личности Соловьева видит «его силу») и «удвоенная против других чувствительность к смешному» [135] – в сущности, есть одна и та же черта. Так что вышеприведенные характеристики смеха Соловьева – от невинно-детского до жутко-демонического, от «неистового» до светски-игривого – не противоречат друг другу, а суть разные градации острого рефлекса на эти самые «мировые противоположности».
И второе, что следует из приведенного выше эпизода лекции. Для Соловьева в качестве насмешки над действительностью выступает поэзия как таковая, а не только специально юмористическая, ироническая, сатирическая (в соответствии с привычно-плоским взглядом). Поэтическое вдохновение, приносящее весть о горнем, есть уже насмешка над дольним, хотя и чуждая намеренной ухмылки. Поэтому, на вкус Соловьева, грань между патетическим и смешным в поэзии нечувствительна и переходы от одного к другому не кажутся ему такими разительными диссонансами, как многим его читателям и критикам. «Из смеха звонкого и из глухих рыданий / Созвучие вселенной создано», – пишет он в «Посвящении к неизданной комедии» (то есть к «Белой Лилии»). [136] То и другое образует для него не диссонанс, а аккорд («созвучие»), хотя антитетичны не только элементы этого «созвучия» (смех/слезы), но и эпитеты к ним.
С. Н. Булгаков в связи с поздней поэмой «Три свидания» говорит о «манере Соловьева зашучивать серьезное». [137] Эту «манеру», однако, нельзя сводить к некоторой метафизической застенчивости автора: в серьезном у Соловьева содержится очень часто сакральная крупица смеха – поэзии – свободы. «Смеялась, верно, ты… – обращается он к неименуемой Подруге Вечной, – богам и людям сродно / Смеяться бедам, коль они прошли». Одно только предположение, что София (а кто ж еще, что бы ни понимать под этим именем?) может смеяться вместе со своим избранником, придает шутливости Соловьева совершенно парадоксальный характер, не сводимый ни к насмешкам над пошлостью «здоровой обыденщины», ни к автоиронии. Вспоминаются слова все того же Евгения Трубецкого: «В наш скептический век он являл собою как бы олицетворенный парадокс». [138]
«Белая Лилия» – быть может, самый парадоксальный из текстов Соловьева, как философских, так и поэтических. В этом отношении с нею может поспорить разве что «Краткая повесть об антихристе», при первом знакомстве вызвавшая большое смятение в умах современников. Но если пророческая цель «Краткой повести…» ясна или, во всяком случае, проясняется самим ходом времен, то цель «Белой Лилии» неудоболовима. Последователей соловьевских идей, соловьевской софиологии комедия болезненно задела. Для Величко сочинение «мало понятное», «странное», дисгармоничное, жанр которого он затрудняется определить: «комедия (?)» – с вопросительным знаком. [139] Для Соловьева-племянника «это странная пьеса», «шутки самые грубые, развязные и иногда циничные, крайняя нелепость и чепуха переплетаются в ней с <…> мистикой Софии». [140] С. Н. Булгаков (правда, в период «Тихих дум» – времени наибольшего его отхода от «соловьевства» под влиянием о. Павла Флоренского) характеризует пьесу как «стихотворный фарс о Софии», «граничащий с мистической порнографией и, вместе с тем, включающий в вполне серьезные и вдохновенные софийные стихотворения»; это «бравирующее выражение <…> астрального флирта», одно из самых двусмысленных и неприятных произведений Соловьева». [141]