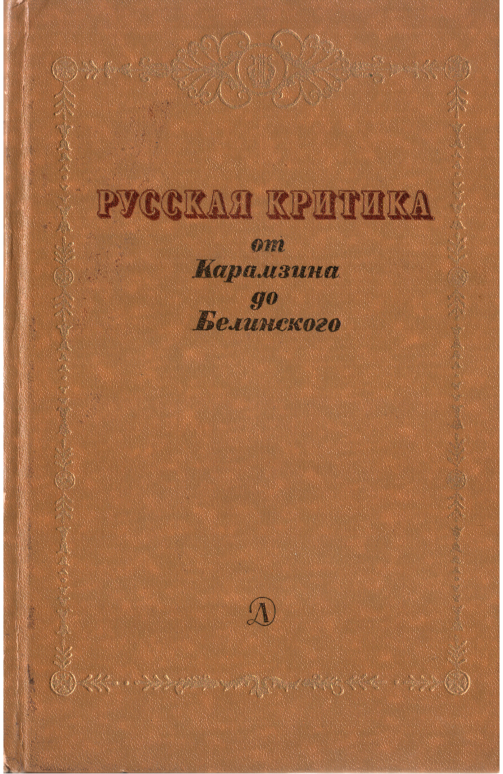Не только слава частных лиц, но слава целых литератур пала, и слава других восстала в прочной, бессмертной силе. Давно ли латинскую литературу ставили рядом с греческою — и кто осмелится теперь сделать это? Давно ли французская литература первенствовала у всех народов — и кто теперь не отрицает ее первенства?.. И все это совершилось в девятнадцатый век! Где же причина сего непостижимого для многих явления? Что вдруг просветило благословенный XIX век?
Осьмнадцатое столетие можно назвать эпохою переворотов: конец его ознаменовался великими политическими переменами на обоих полушариях земли и таким же великим движением в умственном мире. Зерно многих столетий развернулось в наше время: мы ли виноваты в том, что судьба заставила нас быть современниками сего развития? Свет истинной философии отразился в науках и искусствах; в литературу внесен светильник критики, и века всех времен явились нам в настоящем своем виде, тогда как для предшественников наших, неосвещенных сим животворным светом, они находились во тьме. Здесь причина всех новых изменений в мире литературы. Критика утвердилась не на понятиях толпы, всегда прикованной к своему веку, но на истинных понятиях об изящном и на рассмотрении современной истории, всегда отражающейся в произведениях литературы. Будем ли удивляться после сего, что еще в недавнее время толпа восхищалась одними наружными формами и потому плакала, глядя на ложный ужас и жалость в трагедиях Мармонтеля и Сумарокова, читая описание семейственных картин в романах Лафонтена [36] и в драмах Коцебу*, и слишком высоко ценила гладкие, цветистые стихи аббата Делиля? Человека можно уподобить человечеству: что восхищает его в младенчестве, то смешит в лета ума. Однако же не должен ли он сказать, что только в лета зрелые начал понимать истинное достоинство и место предметов, представляющихся ему?..
Понимаем, отчего сочинения Пушкина мало подвергались печатной критике. Причина сего заключается в том, что для критики недоставало данных, на коих бы она могла основать свои выводы. Теперь, с появлением в свет «Полтавы», можно судить о Пушкине. Признавая последнюю его поэму одним из совершеннейших его произведений, мы намерены здесь показать, на чем основываем свое мнение. Для сего необходимо бросить взгляд на все поэтическое поприще Пушкина.
Литература русская всегда была наперсницею литератур иностранных. Переняв просвещение у иноземцев, мы надолго остались их нравственными данниками. Даже доныне, кроме гиганта Державина, кто из наших поэтов мог похвалиться своим, незаемным вдохновением? Жуковский, сей очаровательный поэт, не может быть назван творцом. Даже те из его сочинений, коих изобретение принадлежит ему, навеяны из-под чуждого неба... Жуковский увлек нас к одностороннему направлению Шиллера* и заставил лететь в небеса, забыв, что у нас есть Россия, которая имеет свой мир. Во время направления, данного поэзии нашей Жуковским, явился Пушкин.
Сей необыкновенный человек, еще в самых юных летах ознаменовавший себя прекрасными стихотворениями и каким-то оригинальным взглядом на предметы, тотчас обратил на себя общее внимание знаменитых современников: Карамзина, Жуковского, Батюшкова. Может быть, дружба с последним и раннее знакомство с итальянскою поэзиею, ибо в доме Пушкиных итальянский язык был в употреблении, породили мысль о «Руслане и Людмиле». Эта поэма, русская по своему названию, по многим картинам и собственным именам напоминает не Россию, а поэму Ариоста*. В «Руслане» также странствующие рыцари ищут красавицу, дерутся за нее и питают в душе своей чувства не русских витязей, и даже не героев нашего сказочного мира, происходящих в свою очередь не по прямой линии от русских богатырей, но чувства рыцарей средних веков. Несообразность сия тем страннее в поэме Пушкина, что автор имел перед глазами превосходный образец старого времени в «Песне о полку Игоря». Если читатель примет на себя труд сравнить бессмертное произведение древнего барда нашего с «Русланом и Людмилою», то он увидит, как несообразен дух новой поэмы с временем, в нем изображаемом. Что же причиною этого? Влияние итальянского поэта, которого Пушкин переделал на русские нравы. «Руслан и Людмила» имеет высокое достоинство по своим отдельным картинам и стихосложению, удивившему читателей новостью и силою, но вообще поэма сия столько же сообразна с древним русским духом, как Orlando furioso [37] с каким-нибудь историческим лицом старой нашей Руси.
В это время имя юного поэта сделалось славно между молодыми современниками его другим родом поэзии: мы разумеем здесь мелкие стихотворения, в которых Пушкин — кто не знает этого? — является истинным Протеем*. Но не разнообразный гений его, не прелесть картин увлекали современную молодежь, а звучные стихи, изображавшие их дух, от которого после сам Пушкин освободился и причисляет его к заблуждениям своей юности...
Человек, столь высокий, как Пушкин, не мог долго покорствовать чуждому душе его влечению. Он вскоре освободился от своего ложного направления, жил в уединении, стараясь, как сам он выразился, «в просвещении стать с веком наравне» — и плодом его изучений был «Кавказский пленник». Здесь видим направление совершенно новое! Для нас ясно теперь, что поэма сия, как и другие поэмы Пушкина, следовавшие за нею, была следствием Байрона*, овладевшего на время всем миром...
Певец иронии сделал сильнейшее впечатление на Пушкина. Русский поэт не мог освободиться от него ни в «Бахчисарайском фонтане», ни в «Цыганах», ни в «Онегине», ни в современных им мелких своих стихотворениях. Все сии сочинения носят на себе печать Байронова влияния, ибо все они основаны на несоразмерности средств с действиями, образующей иронию. Впрочем, «Онегин» выходит несколько из сего круга, ибо в нем виден более спокойный взгляд и какое-то желание примирить несообразности земных явлений. Татьяна представляет нам собою благородную борьбу человека с несчастием; она является героинею и, следственно, возвышается над обыкновенными событиями, тогда как ни в поэмах Байрона, ни в «Кавказском пленнике», ни в «Бахчисарайском фонтане», ни в «Цыганах» нет ни одного лица, которое не падало бы под бременем встречающихся ему зол или не было ничтожно и достойно своих бедствий. Пушкин невольно сделал Татьяну героинею.
Уже в «Онегине» можно было заметить, что гений нашего поэта требует нового направления, что он недоволен сам собою. Это показывает необычайную силу души, ибо человек обыкновенный, хороший поэт, был бы навсегда окован байроновским направлением, достойным образом им выражаемым и доставляющим ему славу. Мы нередко видим, как целому поколению трудно отставать от своих привычных стремлений; но Пушкин решился на гигантский подвиг — и совершил его. Сей переход нашего поэта чрезвычайно любопытен для ума наблюдательного.
Шекспир и Гете* занимали его внимание; но