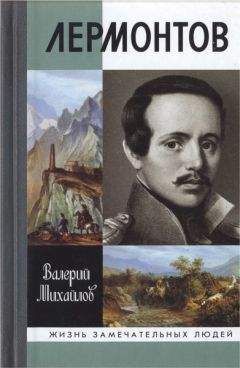VI
Сожительство в Лермонтове бессмертного и смертного человека составляло всю горечь его существования, обусловило весь драматизм, всю привлекательность, глубину и едкость его поэзии. Одаренный двойным зрением, он всегда своеобразно смотрел на вещи. Людской муравейник представлялся ему жалким поприщем напрасных страданий. Когда, например, после одной битвы, генерал, сидя на барабане, принимал донесения о числе убитых и раненых, офицер Лермонтов «с грустью тайной и сердечной» думал о людях:
Жалкий человек!
Чего он хочет?.. Небо ясно;
Под небом много места всем:
Но беспрестанно и напрасн
Один враждует он… Зачем?[18]
Поэт никогда не пропускал случая доказать людям их мелочность и близорукость. Громадные фигуры Наполеона и Пушкина вдохновили его написать горячие импровизации – «Последнее новоселье» и «На смерть Пушкина», – пьесы, вылившиеся одним потоком и потому написанные, вопреки обычаю Лермонтова, пестрым размером, с произвольным количеством стоп в отдельных строках. Суетность, преходимость и случайность здешних привязанностей вызывали самые глубокие и трогательные создания лермонтовской музы. Не говорим уже о романсах, о неувядаемых песнях любви, которые едва ли у кого другого имеют такую мужественную крепость, соединенную с такою грациею формы и силою чувства; но возьмите, например, поэму о купце Калашникове: Лермонтов сумел едва уловимыми чертами привлечь все симпатии читателя на сторону Кирибеевича, т. е. на сторону нарушителя законного и добронравного семейного счастья, и скорбно воспел роковую силу страсти, перед которою ничтожны самые добрые намерения… Или вспомните «Колыбельную песню» – самую трогательную на свете: один только Лермонтов мог избрать темою для нее… что же? – неблагодарность! «Провожать тебя я выйду – ты махнешь рукой!..» И не знаешь, чему больше дивиться: безотрадной ли и невознаградимой глубине материнского чувства, или чудовищному эгоизму цветущей юности, которая сама не в силах помнить добро и благодарить за него?..
Оценивая Лермонтова в своей пламенной и обширной статье[19], Белинский прекрасно понимал всю силу возникшего перед ним глубокого таланта. В двух-трех местах, небольшими фразами, он даже обмолвился тем взглядом на поэзию Лермонтова, который теперь, на расстоянии полувека, конечно, дается гораздо легче, в особенности после появления «Демона», вовсе не разобранного Белинским. Так, Белинский между прочим заметил, что «произведения Лермонтова поражают читателя безотрадностью, безверием в жизнь и чувства человеческие, при жажде жизни и избытке чувства» (т. IV, стр. 285). Или, приведя стихотворение «И скучно и грустно», Белинский восклицает: «Страшен этот глухой могильный голос нездешней муки…» (там же, стр. 312). Но эти намеки Белинского совершенно исчезают в другом его взгляде на поэта – чисто публицистическом. Здесь уже Белинский не преминул пожурить Лермонтова за то, что он в своей «Думе» назвал науку бесплодной: «Мы иссушили ум наукою бесплодной» – выражение, которое, с нашей точки зрения на поэта, вполне понятно (подобный же упрек, по недоразумению, был сделан Белинским и Баратынскому). Или, например, в другом месте: перед роковой, трагической развязкой песни о купце Калашникове Белинский, уже вполне по Гегелю, предается чувствам, на которые Лермонтов никогда и не думал рассчитывать, которых он всего меньше мог желать от своего читателя. Критик проповедует: «Да переменится же наша печаль на радость во имя победы общего над частным! Благословим непреклонные законы бытия и миродержавных судеб!..» (т. IV, стр. 301). Мог ли когда-нибудь сниться подобный гимн умиления и чуть ли не благодарности перед «бурями рока» автору знаменитой и ужасной «Благодарности»?!..
Многое можно было бы сказать о других произведениях Лермонтова, в особенности об «Измаил-Бее» и «Сашке», недостаточно известных и оцененных, о его языке в поэзии и прозе, о богатстве напевов, об особенном, так сказать веском, ритме его стиха, о ранних самостоятельных эпитетах, которыми он создавал новые образы, об источнике некоторых его риторических приемов, о неровности его творчества, о заимствованиях у Байрона и Пушкина, но о всем этом надо беседовать с книгою в руках, приводя цитаты, читая, перечитывая и подробно развивая свои положения, – да и все это увлекло бы нас в сторону от главного намерения: сделать одним штрихом более или менее цельный очерк поэтической индивидуальности Лермонтова. Эта индивидуальность всегда будет нам казаться загадочною, пока мы не заглянем в «святую святых» поэта, в ту потаенную глубину, где горел его священный огонь. Здесь мы пытались указать лишь на внутреннее озарение тех богатых реализмом творений, которые завещал нам Лермонтов. Подкладка его живых песен и ярких образов была нематериальная. Во всем, что он писал, чувствуется взор человека, высоко парящего «над грешною землей», человека, «не созданного для мира»…
Излишне будет касаться вечного и бесплодного спора в публике: кто выше – Лермонтов или Пушкин? Их совсем нельзя сравнивать, как нельзя сравнивать сон и действительность, звездную ночь и яркий полдень. Лермонтов как поэт, явно недовольный жизнью, давно причислен к пессимистам. Но это пессимист совершенно особенный, существующий в единственном экземпляре. Глава пессимистов нашего века, Шопенгауэр[20], острым орудием своего ума исколол все радости человеческие, не оставил в природе человека живого местечка и с неумолимою логичностью доказал, что существо нашей породы таково, что ни при каких решительно условиях, ни на какой иной планете и ни в каком ином мире мы не можем быть счастливы; это пессимизм, не оставляющий никакой надежды, находящий свое последнее слово в отчаянии. Но не такое впечатление дает нам поэзия Лермонтова. В Лермонтове живут какие-то затаенные идеалы; его взоры всегда обращены к какому-то иному, лучшему, миру. Что воспевает Лермонтов? То же самое, что и все другие поэты, разочарованные жизнью. Но у других вы слышите минорный тон – жалобы на то, что молодость исчезает, что любовь непостоянна, что всему грозит неумолимый конец, – словом, вы встречаете пессимизм бессильного уныния. У Лермонтова, наоборот, ко всему этому слышится презрение. Он будто говорит: «Все это глупо, ничтожно, жалко – но только я-то для всего этого не создан!..» – «Жизнь – пустая и глупая шутка…» – «К ней, должно быть, где-то существует какое-то дополнение: иначе вселенная была бы комком грязи…» И с этим убеждением он бросает свою жизнь, без надобности, шутя, под первой приятельской пулей… Итак, лермонтовский пессимизм есть пессимизм силы, гордости, пессимизм божественного величия духа. Под куполом неба, населенного чудною фантазиею, обличение великих неправд земли есть, в сущности, самая сильная поэзия веры в иное существование. Только поэт мог дать почувствовать эту веру, как сказал сам Лермонтов:
Кто
Толпе мои расскажет думы? —
Или поэт, или никто![21]
И чем дальше мы отдаляемся от Лермонтова, чем больше проходит перед нами поколений, к которым равно применяется его горькая «Дума», чем больше лет звучит с равною силою его страшное «И скучно и грустно» на земле – тем более вырастает в наших глазах скорбная и любящая фигура поэта, взирающая на нас глубокими очами полубога из своей загадочной вечности…
См.: Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1986. С. 235.
«О существовании Божием» (фр.) – Сост.
Эрнест Ренан (1823–1892) – французский философ, филолог и историк религии, известен главным образом работами по истории христианства («Жизнь Иисуса», 1863; «История происхождения христианства», 1862–1863 и др.).
См.: Спасович В. Д. Байронизм у Пушкина и Лермонтова // Спасович В. Д. Сочинения. СПб., 1889. Т. 2. С. 401–404 (впервые: журнал «Вестник Европы». 1888. № 4). Рассуждая о «метафизическом» элементе в творчестве Лермонтова, Спасович указывал: «…пользуюсь при этом мыслью, уже высказанною в одном из литературных кружков моим приятелем и товарищем С. А. Андреевским» (Там же. С. 401).
Бог знает, будет ли существовать это Я после жизни. Страшно подумать, что настанет день, когда не сможешь сказать: Я! – При этой мысли весь мир не что иное, как ком грязи (фр.). – Сост. – Цитата из письма к М. А. Лопухиной от 2 сентября 1832 г. (VI, 418).
Из стихотворения «Что толку жить!.. Без приключений…», частично приведенного в письме к М. А. Лопухиной от 28 августа 1832 г. (VI, 415–416).