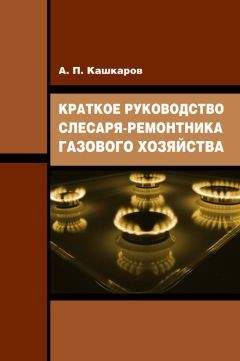Василий Еловских
ТЕПЛО ЗЕМЛИ
Рис. М. Булатова ОТ АВТОРАНекоторое время назад я написал брошюры о совхозе «Красная звезда» и колхозе «Россия» Курганской области. Это не просто лучшие хозяйства в Зауралье. Совхоз — самый крупный в стране производитель свинины. У колхоза наивысшая в Сибири и на Урале урожайность. У обоих миллионные прибыли. А земли здесь неважные — много неплодородных солонцов.
Что подивило меня: когда-то хозяйства эти сильно отставали, были до крайности запущенными. Возрождение началось с того дня, как новым директором совхоза стал Герой Социалистического Труда Григорий Михайлович Ефремов и новым председателем колхоза — Герой Социалистического Труда Александр Иванович Сочнев.
В Зауралье есть еще одно очень хорошее хозяйство, Камаганский совхоз имени 50-летия СССР, руководимый Героем Социалистического Труда Андреем Ивановичем Бимакановым. Работники этого совхоза всегда первыми в области заканчивают уборку хлебов. Косовица проводится за 5, обмолот за 8 рабочих дней. Причем убирают хлеб здесь без помощи горожан.
В работе руководителей названных хозяйств я увидел очень много общего. И мне захотелось написать о них. Герой очерка «Тепло земли» Лаптев — лицо, разумеется, вымышленное. Но я ставил перед ним те же трудности и препятствия, которые были у Ефремова, Сочнева и Бимаканова. Главное, к чему я стремился, — показать, какова роль руководителей хозяйства, каково их место в коллективе.
1Лаптев часто просыпался. Может быть, потому, что все время виделся ему один и тот же кошмарный сон. Будто шагал он по горной узехонькой тропинке; слева — отвесные скалы: справа — ущелье, прикрытое не то дымом, не то туманом, и неслись из ущелья того гул и грохот несусветные. Тропинка скользкая, как лед… но вот и ее уже нет; только скала и ущелье; Лаптев хватается за скользкую скалу, с ужасом чувствуя, что валится в темную, смрадную пропасть. В последний миг уцепился за хилый кустик, растущий меж камней, но голые жиденькие ветки оборвались, и вот он падает, падает… И просыпается. Потом снилась ему заброшенная в лесу избушка. Возле избушки стоял человек с палкой и злобно кричал что-то.
Но, видно, сон был некрепок, потому что каким-то участком мозга понимал Лаптев: не наяву все это, не наяву…
Оскалив зубы, человек ударил Лаптева палкой по голове, и тот проснулся…
Был шестой час утра, время, когда еще темно, но уже нет полуночной сонности, когда возникают еле уловимые утренние звуки; Лаптев уже не чувствовал обычного для него в глубокой ночи обостренного восприятия могильной деревенской тишины, и померкло, стаяло тягостное сознание того, что он один, совершенно один во всем доме и случись с ним что, никто не подойдет, никто сразу и не узнает, что заболел или умер. Подумал: сонные видения наверняка результат усталости, тревожного состояния, которое овладевает человеком, приехавшим на новое место; и связаны они обязательно с чем-то реальным, пережитым. Что же было? Когда и где?
Лаптев пьяно потряс головой, вспомнил! Мальчишкой, гостя у тетки на Урале, он надумал залезть на отвесную гору. Тогда так же оборвались ветки, и он, холодея от ужаса, повис над пропастью, едва успев ухватиться за острый каменистый выступ. Время, конечно, сгладило испытываемые в те минуты чувства… но он хорошо помнит, как, кровеня руки, сдирая кожу, лез и лез наверх, боясь дышать от страха.
А приснившийся оскал?.. Весной сорок шестого, во время ночной облавы, проводимой в курляндском городке с целью вылавливания недобитых, скрывавшихся фашистов, Лаптев увидел на темном дворе длинного человека, его короткий мертвый оскал при желтоватом лунном освещении, услышал пистолетные выстрелы, не громкие, но частые, и решил в растерянности, что его убили, хотя тогда он даже ранен не был, ранят его позднее — летом и осенью.
Неужели же и сейчас подбирается к нему страх когтистый? Да ну, чепуха, какая чепуха! Правда, все эти дни, пока он принимал совхоз, ездил на фермы, то тут, то там улавливал Лаптев недобрые, а один раз — вот удивительно: откровенно пренебрежительный — взгляды. И что?! Будто раньше была только «тишь да гладь, да божья благодать», будто стремился он к этой тиши и никогда не сидел в окопах, не слышал тонкого, отвратительно нежного посвиста пуль, их дьявольского монотонного оркестра, не участвовал в марш-бросках, не рыл траншеи, не ползал по-пластунски, будто не видел лодырей, приспособленцев и просто негодяев, многое видел.
Марш-бросок — весело звучит. Для непосвященного! Хорош бросок — бег километров на двадцать-тридцать с полной выкладкой: шинелью-скаткой, вещмешком, малой саперной лопатой, которая надоедливо бьет и бьет черенком по коленке. Весь мокрехонек. И пыль… А когда падаешь от усталости, все тело пробирает мелкая, как от мороза, дрожь…
Жизнь все время учила Лаптева на свой манер, не спрашивая ни о чем и не предупреждая. В детстве ходил он в рваных сапогах — «кирзачах», у которых почему-то всегда вылезали гвозди и натирали ноги. С лопатой, граблями и вилами стал управляться еще мальчишкой. Воду возил километра за четыре. У деревни, в которой Лаптев родился, стояла болотина, где гнили травы и кочки, а на месте этом, по словам стариков, в прошлом веке было хотя и мелководное, но с чистой водой озеро на километр. Для огорода и скота пахучая водица кое-как годилась, а для питья — нет. Теперь живет Лаптев в местах, где воды хоть залейся, да и в родной деревне давно уже пробили глубокие колодцы, но он до сих пор сохранил в душе своей особое отношение к воде — бережет ее, ценит как никто другой, любит баньку, любит купаться, все вспоминается ему терпкий запах мужицкого пота.
Странно, не может человек думать только об одном, о работе, к примеру, в голову все лезут посторонние, цепляясь одна за другую, мысли.
Сейчас подумалось Лаптеву ни с того, ни с сего, что надо б постирать сорочки. Для начала сделает это сам, а потом будет отдавать кому-нибудь из женщин.
Вечером вскипятит воду. Печка на кухне жаркая, умелыми руками сложена. Да и вообще квартира куда с добром: две просторных веселых комнаты. Поначалу поселился в совхозной гостинице — бывшем кулацком доме, да неудобно там: народ все приезжий, шумливый, беспокойный. От новенького трехкомнатного особняка под шиферной крышей, где жил прежний главный зоотехник, пришлось отказаться — зачем одному такие хоромы?
Светловатая полоса, вползавшая с улицы, откуда-то снизу, то меркла, то появлялась вновь, вырисовывая вверху на стене оконный переплет, и Лаптев понял, что это проделки метели, застилавшей электрический свет. Откуда же свет?
Он вскочил с постели, подошел к окну, поеживаясь, — в квартире выстыло, и от холода и темноты казалось, что в доме сыро. В конторе совхоза уже светились мечущиеся в снежном вихре красноватые огоньки. Горело электричество и в кабинете директора. Собственно, видно было только одно окошко, другие прикрывались громоздкой скульптурой, стоящей возле конторы. С первой минуты, как только сюда приехал Лаптев, бросилась ему в глаза эта убогая лепка: мертвые, ничего не-выражающие лица, неестественные позы — в полном смысле халтура…
За нее совхоз отвалил городскому скульптору восемь тысяч. Надо же! Показуха: и у нас так же, как у добрых людей, и у нас скульптура!
Лаптев бывал в Новоселово и раньше — раза два-три, — читал лекции о текущем моменте, но люди здешние промелькнули тогда, как огоньки в окнах ночного поезда, — мгновенно и одинаково. Знал только директора Утюмова. Утюмов! Когда он познакомился с ним — бог ведает. Иногда кажется, что знакомы всю жизнь; закрываешь глаза и видишь его в разговоре с подчиненными, в кабинетах у начальства, в радости, в злобе, в трудностях. Утюмов! Лицо выражает одновременно строгость (в меру), деловитость, усталость и озабоченность. Такое выражение Лаптев подметил и у новоселовских специалистов и управляющих фермами. Даже улыбка у всех одна и та же — редкая, короткая и неяркая, будто солнышко в ненастье: что-то засветилось в темно-серой облачной мягкости, круг солнечный обозначаться начал, но тут же все вмиг зачернила живая, стремительная туча.
Утюмов сказал Лаптеву:
— И умереть будет некогда, будь оно проклято! Просыпаюсь до пяти, а ложусь в полночь. Голова, как чугун, тяжелая. И все на ногах, все на ногах. Везде успей, за всеми угляди. Чуть прохлопал — чэпэ. У нас тут такие работнички, я вам скажу… Как дети. Все им надо разжевать и в рот положить. За плечами техникум, институт, виски серебрятся, а всё ждут команды.
«За плечами техникум», «виски серебрятся» — какое тяготение к шаблонным фразам…»
Голос Утюмова грубоватый, с хрипотцой. В нем тоже чувствуется строгость, озабоченность и усталость.