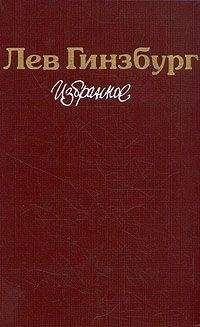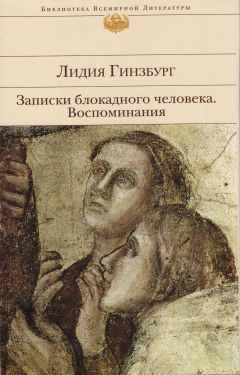Вольфрам фон Эшенбах родился в 1170 году, своего «Парцифаля» он начал в 1200-м, завершил в 1210-м. Это было бесконечно давно: время Фридриха Барбароссы и Ричарда Львиное Сердце, третьего и четвертого крестовых походов, совсем незадолго до Батыя и начала татаро-монгольского нашествия на Русь…
В чем же я должен был искать вдохновение? Что, какую тему найти для себя на сей раз?
Гейне однажды заметил, что история литературы — это большой морг, где всякий отыскивает покойников, которых любит и с которыми состоит в родстве…
Тем не менее, занимаясь историей литературы и отправляясь за литературными сокровищами в самые отдаленные времена и страны, следует не гальванизировать литературные трупы, а возвращать к жизни спящую красавицу Поэзию. Ее только нужно уметь разглядеть, под грудой столетий услышать ее дыхание.
И я пытался. Карабкался по средневековым строчкам, перечитывал переводы. Еще ничто не роднило меня ни с автором, ни с главным героем, ни со стихом, не было даже предварительной концепции перевода.
На дворе стояли сильные морозы, но еще большим холодом веяло от бесконечно длинных шестнадцати глав-песен и от понятия «Грааль» умозрительно-бездушного идеала, который в разные времена провозглашали идеалом то чисто христианским, то чисто германским, то космическим символом, отображением бытия. При этом Грааль был еще и неисчерпаемым подателем пищи, земных благ, своего рода скатертью-самобранкой.
В либретто к опере Вагнера, написанном самим композитором, Грааль предстает в виде античной хрустальной чаши. Есть авторская ремарка: «Ослепительный луч падает сверху в хрустальную чашу, которая начинает все ярче и ярче пламенеть, освещая все багряным сиянием». В другом месте у Вагнера король Анфортас «с просветленным лицом высоко поднимает Грааль и мягко поводит им во все стороны…».
Но в те январские дни, когда я приступал и все никак не мог приступить к переводу, еще далеко было не только до встречи с Граалем, но и с самим Парцифалем…
Надо было решать, каким размером переводить текст. Средневерхненемецкая поэзия не знала строгих размеров, однако явно чувствовалась ямбическая основа. Роман был написан двустишиями, что, с одной стороны, казалось бы, облегчало перевод, а с другой — могло утомить читателя монотонностью. Правда, Вольфрам фон Эшенбах не был чрезмерно педантичен. Наряду с двустишиями он употреблял и строфическую форму народного эпоса. Это предоставляло и мне известную свободу действий.
Мало-помалу в глубине текста стало прослушиваться «биение сердца», строки начали как бы пульсировать: там, внутри, угадывалась своя жизнь, и только какая-то перегородка мешала этой жизни прорваться наружу, разлиться, перейти к нам, в наши дни. То был языковой барьер и барьер времени. Бездонная глубина, откуда предстояло извлечь эту жизнь, этот мир.
Но что значит «извлечь»? По-русски переписать тысячи средневерхненемецких строк? Уцепившись за строку, перевести текст из немецкой стихии в русскую? Да, но что такое в данном случае — «перевести» в русскую стихию? Ведь это перевести немецкий текст XIII века в мир русских людей, читавших Пушкина и Есенина, воспитанных на Гоголе и Толстом. В какую же стихию я этот текст перенесу? Как не учесть, что моими читателями будут люди не начала XIII, а 70-х годов XX века? Надо иметь в виду их жизнь, их время, их интересы. Нельзя забывать и о другом: как бы там ни было, я обязан показать им все-таки XIII век и их самих перенести в средневековую немецкую стихию…
В то время, когда я переводил «Парцифаля», ученые все чаще стали требовать от переводчиков уважения к истории человеческой мысли, к истории культуры, нравов, обычаев. Это было справедливое требование. И в самом деле: по меньшей мере нерасчетливо устранять в переводе старинного произведения «моменты» (пользуясь терминологией одного из авторов статен о мировой культуре и современности), «которые способны породить удивление современного читателя своею „странностью“»… Напротив, каждая такая «странность» бесценна: старина неожиданно оборачивается новизной, обнаруживаешь неведомые поэтические приемы, причудливые повороты сознания. Чем больше этих «странностей», тем радостней переводить: хватило бы только умения!
Вместе с тем переводчику часто как бы указывают его место «посредника» между автором текста и читателем, требуя «большей строгости в передаче всех оттенков стиля и мировоззрения эпохи, к которой относится переводимый памятник».
Возражать не приходится, однако, не обладая собственным мировоззрением, собственным стилем, переводчик никак не в состоянии справиться с этой задачей.
«…Мы сами никак бы не столкнулись с немцами, — писал Гоголь, — если бы не явился среди нас такой поэт, который показал нам весь этот новый, необыкновенный мир сквозь ясное стекло своей собственной природы, нам более доступной, нежели немецкая. Этот поэт — Жуковский, наша замечательнейшая оригинальность!»
Итак, переводчик и — оригинальность! Никакого противоречия в этом, разумеется, нет. Скорее — важнейшее условие для того, чтобы стать настоящим поэтическим посредником. Впрочем, иные и не нужны.
Со всей серьезностью передо мной вновь встал вопрос о принципах перевода классики.
Известно, что в 20-е годы, в пору господства буквалистов, классиков зачастую переводили каким-то удивительно пыльным, мертвым, старомодным языком, бесконечно далеким от живой современной речи.
В наше время возникла и, можно сказать, даже нарастает другая опасность — амикошонства, панибратского отношения к текстам великих писателей, не просто «осовременивания» и не «демократизации», а недопустимого удешевления и разжижения лексики мировых классиков.
Снова и снова я вчитывался в седой, древний подлинник: старался понять исконную лексику, почувствовать стих.
Между тем Вильгельм Штафель, наиболее полно, добросовестно и, может быть, даже вдохновенно переложивший «Парцифаля» на язык современной немецкой прозы, в послесловии к своему труду утверждал, что вообще нет никакой необходимости переводить роман Вольфрама фон Эшенбаха современным стихом. Вильгельм Герц, один из тех, кому лучше, чем другим, удалось перевести «Парцифаля» стихами, с точки зрения Штафеля, «дал нам „Парцифаля“ XIX столетия». Нет, говорит он, раз уж не удается полностью, точь-в-точь воспроизвести форму, то пусть точь-в-точь будет передано хотя бы содержание. А это возможно сделать, только отбросив стих, при котором неизбежны вынужденные переводческие вольности.
Но разве содержание и форму можно отъединить друг от друга? Разве содержание романа не определяется в известной мере звучанием стиха, его интонации, характером рифмы, ритмическими ходами? Разве образ самого поэта-рассказчика не выражается прежде всего через его стих?..
Вот те мысли, которые занимали меня в первые недели работы, когда я все теснее сходился с франконским рыцарем и поэтом Вольфрамом фон Эшенбахом, которого обязан был заставить заговорить по-русски.
Кого склоняет злобный бес
К неверью в праведность небес,
Тот проведет свой век земной
С душой унылой и больной…
Так начинался «Парцифаль» — рассуждения на религиозно-нравственные темы, однако выраженные совершенно просто, по-житейски, не без некоторого балагурства даже.
Из-за кулис глянул на меня живой автор, подмигнул и повел за собой туда, в даль своего романа.
Позднее я приметил свойство автора появляться в разгар повествования, возникать в нем неизвестно откуда и неизвестно куда исчезать. Лукавый, всепонимающий, всезнающий автор возвышался надо всеми своими персонажами: он был их хозяином, и они совершали поступки, повинуясь единственно его авторской воле. Он и меня — своего переводчика — постепенно подчинял себе, навязывая свой тон, манеру мышления. Он был одновременно и автором, и как бы персонажем своего романа, одним из наиболее привлекательных: открытостью, доверчивостью, смелостью суждений, истинным чувством юмора, то есть способностью с юмором относиться прежде всего к самому себе. Повествуя, он то вступал в разговор с читателем, то стремился защитить повествование от читательского любопытства, то таинственным образом испытывал ваше внимание, память, сообразительность…
Собственно, большинство биографических сведений об Эшенбахе, которыми располагает наука, извлечены из его романа: названия мест, где он жил, упоминания о постоянных материальных тяготах и любовных переживаниях, отголоски яростной поленики.
Свое произведение Эшенбах именует не чем иным, как попыткой в соответствии с истиной пересказать неоконченную «Книгу о Персевале» провансальского поэта Кретьена де Труа, положившую начало жанру рыцарского романа. По версии Эшенбаха, он всего лишь «излагает» по-немецки то, что у Кретьена «сказано по-провансальски», с изменениями и добавлениями, заимствованными у поэта по имени Киот. В эпилоге он прямо заявляет, что «немало стоило труда рассказ Кретьена де Труа… выправить с таким расчетом, чтоб то, что было нам Киотом поведано, восстановить и эту быль возобновить, не высосав ее из пальца…».