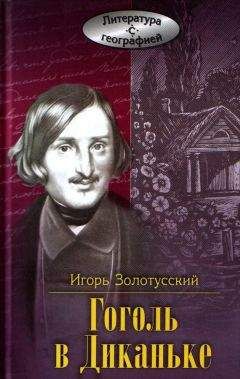— Что это у меня? точно отрыжка? — сказал Гоголь и остановился. Хозяин и хозяйка дома даже несколько смутились… Им, вероятно, пришло в голову, что обед их не понравился Гоголю, что он расстроил желудок…
Гоголь продолжал:
— Вчерашний обед засел в горле, эти грибки да ботвиньи. Ешь, ешь, просто черт знает, чего не ешь…
И заикал снова, вынув рукопись из заднего кармана и кладя ее перед собою… „Прочитать еще „Северную пчелу“, что там такое?“ — говорил он, уже следя глазами свою рукопись.
Тут только мы догадались, что эта икота и эти слова были началом чтения драматического отрывка, напечатанного впоследствии под именем „Тяжба“. Лица всех озарились смехом… Щепкин заморгал глазами, полными слез…»
3
Есть смех, который, выступая против зла, сам зол, сам односторонен. Он не признает мягкости, милосердия. Он карает. Гоголь в своих творениях веселится, и это веселье поднимает душу, возвышает душу.
Эту черту комизма Гоголя увидел еще Пушкин. Он и сам смеялся, слушая автора «Вечеров» и «Ревизора», просто катался от смеха, как вспоминают присутствовавшие на этом чтении, и писал о первой книге Гоголя: «Истинно веселая книга».
«Вот настоящая веселость, — писал Пушкин, — искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе…»
Могут сказать, что это отзыв Пушкина о молодом Гоголе, о Гоголе, еще не написавшем «Мертвые души» и «Выбранные места из переписки с друзьями». Но в той же статье, ставя Гоголя вслед за Фонвизиным, Пушкин, однако, отделяет его от Фонвизина и других, говоря, что Гоголь заставляет нас «смеяться сквозь слезы грусти и умиления».
Вопреки отзывам Пушкина и статьям Белинского смех Гоголя еще долго расценивался как «фарса». «Фарсой» его поспешил окрестить Булгарин. «Подобного цинизма мы никогда не видели на русской сцене», — писал он в «Северной пчеле». Гоголя подозревали в нелюбви к человеку, в скрытом желании растравить «наши раны». Одни предлагали сослать автора в Сибирь (за слишком прозрачные намеки на начальство), другие говорили, что смех Гоголя преувеличен похвалами пушкинской «партии».
Гоголя называли творцом «побасенок» и злым гением.
С одной стороны, ему отводилась роль шута, забавляющего публику смешными историйками, с другой — смех Гоголя вызывал страх. А как известно — и это сказал Гоголь — «насмешки боится даже тот, который уже ничего не боится на свете».
Смех Гоголя был не понят. Недаром вместе с «Ревизором» — и в те же дни, когда давался «Ревизор», — на той же сцене шли комедии «Две женщины против одного мужчины», «Бабушкины попугаи» и «Покойник-муж». Зрители равно смеялись как водевилю, так и «Ревизору».
А в начале XX века В. Розанов писал, что смех Гоголя «пустынный смех», «безыдейный хохот». Этот смех, утверждал Розанов, пронесся по Руси, круша все на своем пути и предрекая грядущие разрушения. Розанов видел в Гоголе поэта мелочей, певца солнца в капле воды, «завалившейся в навоз».
Но смех Гоголя — радуга, сотворенная из брызг дождя и вбирающая в себя все цвета дня. В нем, как говорил сам Гоголь, оценивая характер русских литературных пародий, «желчь Ювенала соединилась с каким-то особенным славянским добродушием».
Это добродушие видно и в русских сказках — в тех, где осмеиваются глупый царь, ленивый барин и сам черт. В сказках и мужику достается, и его бабе, если они стали жадничать, позарились на чужое добро или возгордились достатком. Но, будучи посрамлены — и посрамлены жестоко, — они в конце концов получают шанс на прощение.
В черновых набросках к «Мертвым душам» есть такая запись: «Я, признаюсь сам, не позволю даме облокотиться на мое письменное бюро. Да если бы и облокотилась, то, признаюсь, я бы не заметил: я не гляжу в это время по сторонам; если я взгляну, то вверх, где висят передо мною стенные величавые портреты Шекспира, Пушкина, Ариоста, Филдинга, Сервантеса…»
Заметьте: Гоголь обращает глаза вверх. Он называет портреты, которые при этом видит, «величавыми». Это относится не к величине рамы или холста: речь идет о величии изображенных на портретах людей.
В этом списке нет ни Ювенала, ни Свифта. Нет гениев чистой сатиры, смех которых — смех без слез — выставление перед всем светом, как говорил Гоголь, одних «идеалов огрубения».
Поражая законченные и совершенные в художественной отделке пороки, смех Ювенала и Свифта и сам закончен, полон своей отрицательной полнотой. Он вместе с тем горд и надменен, горд высотой своего положения на Олимпе и оттого смотрит на жизнь сверху вниз.
Смех Гоголя ближе к жизни. Он раздается не с оледенелой высоты. Он струится, как свет, он даже нежен порой, как серебряный римский воздух.
Как бы ни негодовал Гоголь, как бы ни припечатывал он одной, казалось бы, навеки клеймящей чертой человека (как Плюшкина с его прорехой на халате), смех его склоняется к жалости. В нем нет мести и нет необратимого суда. Свобода смеха ограничена у Гоголя сострадательным чувством. В этом смысле смех Гоголя родствен смеху Сервантеса.
Это эпическое веселье, обнимающее всю жизнь и всего человека, а не направленное избирательно на порок. Предмет Гоголя не пороки и не застывшие в своей отрицательности низкие черты человека, а общая ничтожность или пошлость жизни, лишенной на какие-то мгновения высшего смысла. Это, скорее, заснувшая жизнь, как любил говорить Гоголь, жизнь, впавшая в забытье, жизнь, похожая на сад Плюшкина.
Все застыло в этом саду, но игра света и тени, молодая ветвь клена, тянущаяся из темноты зарослей к солнцу, говорят о непроснувшейся жизни, жизни, готовой развернуться и распуститься. И недаром Гоголь называет события, происходящие в «Мертвых душах», «дурью почище сна», потому что это заколдованное царство, хрустальный колпак над которым должен разбить смех автора.
Изобрази я «картинных извергов», писал Гоголь, мне бы простили, «но пошлости не простили мне. Русского человека испугала его ничтожность более, чем все его пороки и недостатки. Явленье замечательное! Испуг прекрасный!». Смех Гоголя рассчитан на этот испуг. Он рассчитан на пробуждение ото сна. Смывая с человека ничтожность и пошлость, смех этот не смывает самого человека.
«Горьким словом моим посмеюся» — высечено на надгробной плите Гоголя. Горьким смехом моим порадуюсь — мог бы добавить к этим словам сам Гоголь. Ибо если человек смертен, человек конечен, человек обречен уничтожению, то смех дан ему на то, чтоб преодолеть свою смертность и, веселясь, заглянуть в бессмертие.
1984Зачем венцом всех эстетических наслаждений во мне осталось свойство восхищаться красотой души человека везде, где бы я ее ни встретил?
Гоголь. Авторская исповедь
При жизни Гоголя называли то Теньером, то Гомером, то Поль де Коком, то Вальтер Скоттом. И как бы иронически ни склонялись эти имена рядом с его именем, каждый раз в расчет бралась — и абсолютизировалась — лишь одна сторона Гоголя: или его беспощадная наблюдательность, или склонность к эпосу. Критике они казались несовместными, чужеродными, она не могла понять, что это две стороны одного Гоголя и что он при этом новый талант, а не Гомер и уж тем более не Поль де Кок. Появившись со своими «Вечерами на хуторе близ Диканьки», он тут же был записан в малороссийские «жартовники». Ему не хотели отводить места в общероссийской литературе, считая, что его проза имеет «областное» значение. Сам юмор Гоголя или его комизм относили на счет украинского его происхождения и материала, который он использовал. Но когда этот смех стал расти и приобретать не положенные ему трагические размеры, Гоголь был объявлен отступником от своего дара.
Как бы предвидя насмешки в свой адрес, он вначале скрывался под вымышленными именами. Эволюция гоголевских псевдонимов показательна. От романтического В. Алова до неромантического П. Глечика (по-украински «глечик» — горшок), От четырех «о», в которых зашифрованы «о» его имени и фамилии (Ник-о-лай Г-о-г-о-ль-Ян-о-вский), до Г. Янова — они путь Гоголя к читателю, муки самолюбия, страх быть непонятым. Кстати, в качестве П. Глечика и Г. Янова он и напечатался однажды в «Литературной газете» вместе с Пушкиным. Случилось это в четверток, 1 января 1831 года. На первой странице было помещено стихотворение Пушкина «Кавказ», а рядом — глава из малороссийской повести под названием «Учитель» и статья «Несколько мыслей о преподавании детям географии».
Обе они принадлежали перу Гоголя.
Пушкин этого соседства не заметил. На запрос П. А. Плетнева, обратил ли он внимание на помещенные рядом с его «Кавказом» статьи (при этом Плетнев открывал истинное имя молодого автора), Пушкин отвечал: «О Гоголе не скажу тебе ничего, потому что доселе не читал его за недосугом». Факт этого заочного знакомства двух поэтов не отмечен в истории русской литературы. Меж тем именно так — на страницах газеты Дельвига — впервые встретились Пушкин и Гоголь. Никто не мог предполагать, что означала эта встреча. Вряд ли и те, кто знал, кто такие П. Глечик и Г. Янов, догадывались, что она предвещает. Но пройдет четыре года, и Белинский в «Телескопе» объявит: «…г. Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере, в настоящее время он является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным».