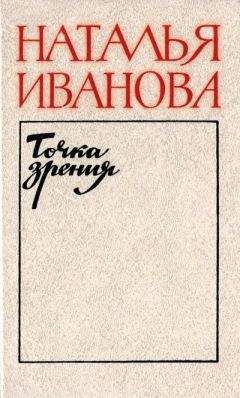Реальность чувства состоит в том, что жена и после смерти к Инфантьеву приходит, — а Монахову никто не нужен и при жизни. Битов показал, сколь духовная гибель героя окончательнее физической и как память и любовь преодолевают смерть.
Один из любимых вопросов Битова: догонит ли Ахиллес медленно ползущую черепаху — можно переадресовать и ему самому. Пока быстроногие (если не сказать бойкие) литераторы успешно покоряли одну тематическую вершину за другой; пока они, стремясь не отстать от жизни, погружали своих героев то в поточный метод, то в квадратно-гнездовой способ, то уточняли психологические параметры бригадного подряда, боролись то с рутиной, то за дисциплину, — Битов медленно, но верно двигался вроде бы черепашьим шагом и… обгонял Ахиллеса.
О «вечных» темах, об их необходимости мы открыто заговорили в начале 80-х. А роман «Роль» замыкают даты: «1961, 1965».
Второй пример. Опять-таки за последние два, три, ну от силы пять лет литература с нарастающей силой заговорила об экологии. А под повестью Битова «Птицы, или Новые сведения о человеке», повестью, как сейчас бы мы сказали, целиком и полностью экологической (Битов рассказывает об уникальном заповеднике на Куршской косе), опять-таки стоят неопровержимые даты «1971, 1975». Ахиллес, где ты?
Но вернемся к героям Битова, к загадкам их жизни и смерти, столь мучающим автора и по окончании работы над произведением.
* * *
«Живая проза прорывает твое личное время и во многом предвосхищает твой опыт».
А. Битов. «Уроки Армении»
Битов в своем поколении является как бы частью чего-то мощного, чему не выпала судьба состояться полностью, реализовать свой «генетический код». Но и по этой части, сохраняющей линии задуманного целого, сооружения в полном, завершенном его виде, можно восстановить — приблизительно, конечно, — параметры того, что могло бы осуществиться. На своем авторском вечере писатель с горечью сказал о том, как безнадежно долго он ждал публикации одного из своих рассказов. Семнадцать лет… А сколько в его папке лежит всяких «начал»! А судьба романа? И крупные произведения самого Битова подстерегала та же роковая судьба: по частям, по «пунктиру» читатель должен восстановить в сознании задуманное, целое. Так вот, в этом «целом» романа одной из самых загадочных фигур остался бы «Молодой Одоевцев, герой романа» (так назывался цикл рассказов и повестей, объединенных одним центральным персонажем, — закамуфлированный «дайджест» «Пушкинского дома»).
Лева Одоевцев, литературовед лет тридцати, работает в Пушкинском Доме, занимается русской литературой XIX века. «Что сказать о Леве Одоевцеве? Он из тех самых Одоевцевых…» Имя — Лев Николаевич — вдвойне значимо для русского слуха: так звали не только Толстого, но и князя Мышкина. Лева Одоевцев как бы и «богат» происхождением, являясь наследником русской культуры, и отягощен им («скорее однофамилец, чем потомок»), ибо он замыкает, а не начинает.
Сюжет в «Пушкинском доме» блистательно отсутствует. Как в романе «Роль», время дискретно, разорванно. От конца пятидесятых к концу шестидесятых — вот приблизительно эпоха, в которую происходит действие. Автор практически не дает «подпорок» нашему воображению, только торжественно-иронически отмечает, что «Лева сшил себе первый костюм в тысяча девятьсот пятьдесят пятом году по английскому журналу на пятьдесят шестой год», — больше мы про эти переломные для общества годы ничего из повествования не услышим. Автор явно не желает «зарабатывать на жирной честности темы». Он опять строит свое повествование независимо, создает своего героя как бы по касательной к тем проблемам и к тем «героям времени», которые были тогда популярны.
Битов смотрит на своего Леву уже с той временной дистанции, где пятидесятые годы кончились (даты работы над циклом — «1964, 1970»). Он пишет своего героя, уже зная или предвидя историческую судьбу его поколения — судьбу тех, кому в те достопамятные годы было около двадцати. И проверяет потенциал своего героя он любовью к женщине и способностью к творчеству. Развивая традиции русской литературы (вся вещь в этом отношении чрезвычайно насыщенна: здесь и «говорящие» эпиграфы из «Героя нашего времени», и ассоциации с литературными героями, и раскавыченные цитаты, и имена, и даже книги в руках у героев — Словарь Даля, «Война и мир» — все дышит русской культурой, русской литературой), автор вроде бы оставляет своего героя на «рандеву», а на самом деле испытывает его гражданскую состоятельность.
Итак, Лева любит Фаину — он «был убежден, что Фаина его вечная, незаживающая любовь». Незаживающая и вечная, потому что отношения с Фаиной — это вечная мука, неудовлетворенность, погоня за ее настроением, за ее ускользающей и такой непрочной любовью. Фаина — это битовская Кармен, а если вспомнить «Роль», то тип, близкий Асе: вечная женственность, коварная и изменчивая, готовая равно к самопожертвованию и предательству. Рядом с нею Леве и хочется правды, и он боится ее — дабы удержать Фаину, лучше не думать о ее вольном характере. Да и так ли уж чист сам Лева? И тут в повествовании появляется «нелюбимая Альбина» — полная противоположность Фаине: преданная, любящая, интеллигентная, близкая Леве духовно, по происхождению, по занятиям… Близость с Альбиной для Левы как бы вынужденная, он как бы не мог не ответить на ее чувство по-джентльменски, благодарностью, но вот Фаина… Маленькое предательство — так думает поистине глубоко несчастный Лева, все более и более запутываясь в ситуации. Предательство накладывается на предательство — «чистоплотный» Левушка не в состоянии быть искренним даже наедине с собой, обрекает себя на бесплодные мучения, встречаясь с нелюбимой Альбиной и любя Фаину, вечно куда-то рвущуюся. Все — так получается — имеет свою подкладку, свою подоплеку: уверенность оборачивается неуверенностью, любовь — предательством, чувство — бесчувственностью, чистота — нечистоплотностью, порядочность — непорядочностью, надежда — безнадежностью: «Впрочем, все это неразделимо и едва ли различимо, все это вместе… Того ровного и бесконечного счастья… вовсе не произошло, а возникла просто некая пустота, приправленная некоторой сытостью и самодовольством, которые, возможно, и не суть, а лишь форма той же, свойственной людям Левиного типа растерянности, когда неизвестно, как тут быть».
Растерянность перед жизнью и неумение (или невозможность?) с нею справиться — вот что акцентирует Битов в историческом, я на этом настаиваю, Левином характере. Неопределенность, аморфность, невыверенность нравственного чувства — при всем богатом культурном наследии и происхождении, при всей утонченной душевной работе, которая не спасает, а лишь запутывает ситуацию. Один маленький эпизод — Лева лишь проводил Альбину до дома — обрушивает на него почти фатально Фаинину неверность. А может быть, и не было никакой неверности?
Неуверенность в себе и в окружающем, неспособность к четкой оценке происходящего порождены, увы, и Левиной утонченностью в том числе. Лева ли мучает Альбину и Фаину или они обе мучают его? Да пожалуй, и то, и другое вместе… «Ведь ясно: Альбина тоньше, умней, интеллигентней, сложнее… А вся понятна и видна Леве, реальна. А Фаина? Груба, вульгарна, материальна и совершенно нереальна для Левы. Реальная была только его страсть, ведь и Лева переставал ощущать себя реальным в этом поле».
Итак, тяга к грубо-реальному, ставшему в сознании чем-то недостижимо-идеальным, и неприязнь к идеальному, от рождения доступному, своему (то есть на самом деле для Левы реальному). Лева никак не может осуществиться, соединить для себя реальное с идеальным. Соединение в своей жизни Фаины с Альбиной — лишь суррогат недостижимой цельности. Реальное силой подчиняет себе Леву, как его «друг» Митишатьев.
В чем «секрет Митишатьева» — для Левы? Откуда эта вечная и неизбежная податливость грубой, прущей силе? Лева провоцирует и Фаину, и Митишатьева именно своей интеллигентской подчиненностью. Он способен только на «взрывы» («срывался… на глупую и позорную грубость»), а затем — он же «не уставал ползать, умолять и извиняться, более и более подпадая под власть». «Лева в конце концов просто поздновато стал понимать, что не столько митишатьевы его давят, сколько он позволяет сам это. Так что испытавший поражение уже заражен, становится тем самым механизмом, который ему ненавистен, то есть становится не только оскорбленным, ущемленным или проигравшим по сюжету, ситуации, повороту, но и действительно пораженным, как бывают поражены болезнью. И то, можно отдать ему должное, Лева долго сопротивлялся системе отношений „кто кого“, пока, подвинувшись вслед за своими мучителями к краю, с удивлением не обнаружил, что лишь время разделяет их, и кого-то другого он уже продает и предает потихоньку, передает, так сказать, эстафету кому-то возникающему в недалеком времени и не хотел ведь принимать ее, а вот уже и сжимает палочку…»