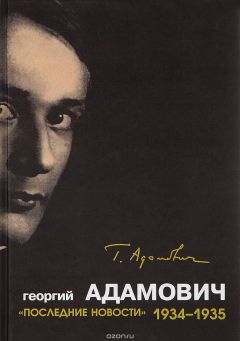Алла Головина — поэт не средний. Она очень талантлива. Думаю даже, что это самый талантливый поэт в Праге, — хотя «за тридевять земель», при отсутствии настоящего, близкого знакомства с тамошней литературной жизнью, не решаюсь это утверждать с уверенностью. Во всяком случае, Головина переросла понятие «школы», «объединения», «группы», — того, что французы называют «chapelle». Стихи ее читать крайне занятно, очень забавно. Если большего она не дает, то, кажется, не потому, чтобы ее научили этой игривости, а потому, что такова ее натура.
Стихи детские по внутреннему тону своему. Как ребенок всегда находит повод развлечься, так все веселит и Головину. Образы возникают мгновенно, с чудесной легкостью. Сравнения перебивают сравнения. «Рифмованные небылицы», — говорит сам поэт о своих стихах… Об Ахматовой нет и воспоминанья. Скорей приходит на ум Поплавский, — точнее, текст стихов Поплавского, без его глубоко-гармонического напева. У Головиной напев свой.
Начало многообещающее. Подождем продолжения. В книге Головиной есть то, чего не хватает многим поэтам, бесконечно более умудренным или искушенным: молодость.
В заключение, приведу переданные мне французские стихи одного русского мальчика.
Автору лет пятнадцать. Он учится во французском лицее. Очевидно, на уроке только что читали Ронсара и поэтов его плеяды. Сонет явно навеян знаменитым сонетом Дю-Беллэ о «счастливом Улиссе». Кое-какие выражения прямо оттуда заимствованы. Но целое вполне самостоятельно:
Ulysse apres vingt ans termine son voyage,
Car les vents plus clements le laisserent enfin
Reprendre vers son ile un hasardeux chemin
Etpouvoir vivre heureux du bonheur des vrais sages.
Mais moi, refugie, sans perdre mon courage,
J’attends depuis longtemps le radieux matin
Ou de ce long exil j’apercevrai la fin
Et pourrai retourner dans mon petit village.
Je ne la connaispas, mais j’aime la Russie.
Est-il donc un humain n’aimantpas sa Patrie?
Je me trouve bien la, mais on est mieux chez soi,
Mais je te dois la vie, o grande bienfaitrice,
Tout mon coeur te benit, France consolatrice,
Mais mon pays lointain, je le prefere a toi.
Пусть о поэтическом таланте юного автора каждый судит по-своему. Отрадно во всяком случае то, что наша здешняя «смена», будто бы уже денационализированная, бывает иногда настроена именно так, а не иначе.
ПО ПОВОДУ «НОВОГО» ЧЕЛОВЕКА
I.
Толки и речи о «новых» людях стары, как свет.
Каждое поколение предъявляет претензию на новизну, — претензию, наполовину основательную (поскольку каждое поколение приносит с собой свои настроения или идеи), наполовину вздорную (поскольку человек остается, в сущности, все тем же). О новых людях говорили в шестидесятых с такой же запальчивостью, с таким же жаром, как в начале нашего века; там резали лягушек, тут искали «красоты» и ходили в театр Комиссаржевской, но и нигилисты, и декаденты верили, главным образом, в себя, в то, что именно им суждено обогатить мир чем-то неслыханным, плодотворным, важным, — таким, от чего никто уже не отречется… Это черта общечеловеческая, вовсе не только наша, российская. Кто следит, например, за французской литературой, знает, конечно, с каким заносчивым самоупоением многие молодые французские писатели склоняют на все лады эти два слова «notre generation»* наше поколение (фр.)., какое высокомерие вкладывают они иногда в это понятие. Будто не у каждого человека есть своя «generation», будто не всем когда-то было двадцать лет и будет шестьдесят. Будто молодостью можно хвастаться. Будто, вообще, дети всегда умнее или внутренне-свободнее, или дальновиднее, или даровитее отцов. Кстати, если бы это было так, самовлюбленные юноши оказались бы жестоки не только к старшим, но и к самим себе: у них тоже будут свои «дети», которые от них же научатся считать себя небывало-новыми… Но это не так, — и Вольтер правильно заметил на старости лет, что «история учит человека “скромности». Не стану, впрочем, на этих общих наблюдениях и соображениях задерживаться. Остановился я на них только мимоходом, — лишь для того, чтобы отметить постоянную, упорную, несмотря на уроки прошлого, очевидно, неискоренимую веру людей в свое «обновление».
В советской России готовы усмехнуться вместе с нами над этой иллюзией. Но только до тех пор, пока речь идет о прежних людях, мнивших себя «новыми»: о Базарове, о Марках Волоховых, о Марианнах и Неждановых, о гимназистах Леонида Андреева и неврастенических богоискателях Андрея Белого, о дубоватых арцыбашевских героях и даже, пожалуй, о светлых личностях Максима Горького. В прошлом ничего подлинно «нового» не было и быть не могло, как не может его быть и еще теперь в Европе… ибо «капитализм» неумолимо делает свое дело… В капиталистических условиях, как установил Маркс, человек бывает наделен такими-то и такими-то свойствами. Но социализм творит чудеса. При социализме может и должно произойти то обновление людей, о котором бессильно мечтали лучшие умы человечества. У нас в СССР социализм, как известно, победил. Новые люди появляются всюду. Главнейшая задача реализма, именуемого социалистическим, показать эту человеческую «новь», в поучение тем, кто еще не расстался с былыми своими эмоциями и стремлениями, и на зависть, на удивление Западной Европе. По сведениям советских публицистов и критиков, Западная Европа, действительно, завидует, действительно, удивляется «новому человеку», появившемуся в России, — и, затаив дыхание, оскалив хищные зубы, следит за его развитием.
Цену таким советским заявлениям мы давно знаем. Они вошли в обиход теперешней официальной русской жизни, и с ними все настолько уже свыклись, что не обращают на них внимания. Это нечто вроде верноподданных излияний по адресу «нашего великого и любимого» Сталина, или выкриков насчет того, что «классовый враг не дремлет»: читаешь как какие-то обязательные, потерявшие смысл формулы, и ждешь, когда же начнется суть дела. В уставе союза советских писателей пункт насчет «отображения» нового человека включен без всяких разъяснений. Беллетристам, на крайний случай, дозволено было сомневаться и колебаться в выборе методов «отображения». Существование же объекта, существование нового человека, — разумеется, вне сомнений. С еретиками и неверующими разговор короткий: исключение из союза, — и, как следствие, потеря надежды на доступ в печать.
Однако, не одни только «оголтелые газетчики», — если применить к московским журналистам выражение самого Ильича, — о новом человеке в СССР толкуют и спорят. И вера в его возникновение, уже состоявшееся или неминуемое в самом близком будущем, не есть только угнетающий, тяжкий груз, взваленный на плечи советских писателей свыше… В некоторых случаях, вера это искренняя и, так сказать, добровольная. Правда, безошибочного мерила чистосердечия у нас нет, — и, теоретически, возражения вроде того, что в России каждая печатная страница
внушена чекистами, остаются всегда возможными. Но надо уметь читать, — и, читая, видеть, чувствовать, понимать человека, стоящего за книгой. Иногда знаешь: это — проходимец. Другой раз бываешь уверен: это душа, может быть, и обольщенная, но чистая и честная. Я затруднился бы дать точный рецепт такого «узнавания», но убежден, что оно доступно огромному большинству читателей… В сущности, в нем — вся прелесть, вся радость литературы, и недаром навеки веков было сказано, что «стиль — это человек» (тут понятие стиля надо бы расширить, включив в него ритм фразы, образы, переходы от мысли к мысли, — и вообще почти все). Мы читаем для того, чтобы чем-то обогатиться, что-то узнать — о мире и о людях. От «проходимцев» ничего узнать нельзя, они способны только развлечь, — и потом навести скуку, едва только к умственным развлечениям мы теряем вкус.
Повторяю: в некоторых случаях, вера советских писателей в возникновение «нового человека» — вера искренняя и твердая. Это обязывает нас не только ко вниманию, но и к тому, чтобы отказаться от предвзятой иронии, с которой большей частью мы о таких предметах судим. Ирония может быть результатом наблюдений, но не должна быть их предпосылкой. Да, — скажут, — но человек-то ведь не изменяется. Откуда же могут быть «новые» люди? Вы же сами заявили, что все это иллюзия. Темный и сложный вопрос. До сих пор как будто бы ход истории и жизни побуждал к утверждению тезиса «неизменности» (случайное впечатление: мне пришлось на этих днях перечесть несколько глав из Фукидида… Боже, до чего поразительно неизменен человек, — хотелось воскликнуть. До чего осталось все тем же самым после двух тысяч лет!). Но, во-первых, можем ли мы быть уверены, что в будущем оправдается все, что оправдывалось в прошлом? Во-вторых, не станет же беспристрастный и проницательный наблюдатель отрицать, что человек на протяжении веков обогащается, утончается, обостряется, усложняется, и хоть и с бесчисленными перебоями, а все-таки куда-то движется в своем развитии (иначе, был ли бы какой-нибудь смысл в слове «культура»?). Неизменен, собственно говоря, только самый костяк, духовный остов человека; не то, что его обволакивает, подвергается медленным превращениям, до известной степени оправдывающим толки о «новизне». Конечно, от поколения к поколению разница невелика, но и тут многое зависит от внешних условий, от того, какова эпоха, каково время…