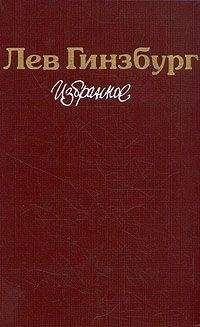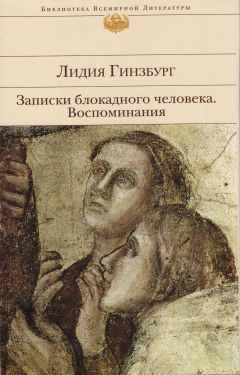Она переводила с русского прозу, была русского происхождения, родилась, однако, в Германии, в глухом, ночном Нюрнберге, когда 1945 год уже уперся в декабрь.
У нее было большое округлое русское лицо, только гримаска немецкая: линия рта, измененная немецким произношением. Пухлые бледные губы. По-русски она говорила слегка шепелявя, пришепетывая немного. Звали ее Наташа.
В зале Высшей народной школы я читал своих вагантов и «Мужицкую серенаду» Шиллера, поднял глаза: в самом верхнем ряду озорной улыбкой вспыхнуло молодое женское лицо.
И вот теперь она была здесь.
В тесном гостиничном номере стояло всего одно кресло. Она присела на кровать, в длинной до пола красной юбке. Мы собирались говорить о том, как переводить цитаты к роману, о технике перевода.
Я смотрел на нее.
У нее были прямые стриженые волосы. Серьезное, тронутое печалью лицо. Держа в красивых полных пальцах черный мундштук, она курила ровными медленными затяжками и вся олицетворяла собой спокойствие, неторопливость.
Она рассказала, что живет с другом, студентом-социологом, который вскоре собирается уехать на три месяца в Новую Гвинею. Это ее страшит. Более всего ее страшит незащищенность.
Я запомнил: несколько раз она произнесла слово «страх».
В то время я еще был обложен пустотой, утром, просыпаясь, выходил из сна в пустоту, плыл в невесомости. Мне показалось, нас что-то роднит; я протянул ей свои записи…
Минувший 1978 год, который начался болезнью Бубы, а затем, в своем зените, в июне, рухнул в небытие, в ее смерть, когда она лежала в гробу, повязанная коричневой косынкой, которую когда-то накидывала себе на плечи, этот год обвала заканчивался необычайными для Москвы морозами: минус сорок два градуса. В кабинете моем было и днем темно от намерзшего на стекла в два пальца толщиной серого льда. Все вымерло, вымерзло. Улицы Москвы были пустынны. На кухне синими венчиками горели, грели все четыре газовые конфорки, шло искусственное тепло, я жался к плите, писал про Грифиуса. Затем наступил 1979 год. В квартиру входили, выходили женские фигуры, сейчас почти не помню их лиц.
Были истерические письма, лихорадочные ожидания на аэродромах, проводы, была беспомощность, была слабость. Была безобразная, оскорбительная для нормального человека суета. Испытание смертью я выдерживал не самым достойным образом. Убегал от нее, спасался, хотел юркнуть в жизнь. Но жизнь не принимала меня, отталкивала, возвращала за тот порог, за 19 июня 1978 года, за ту грань.
Чем дольше шло время, тем сильнее охватывал меня дикий страх перед жизнью, перед всесильной и неумолимой отрезанностью от всего, именуемой одиночеством. И тяжело, грузно, грустно оседал на дно души истерзанный смертью образ Бубы…
Я наблюдал за тем, как Наташа рассеянно, видимо не совсем понимая, что к чему, читает мои записи, и привычно, чтобы как-то заполнить окружавшую меня пустоту, потянулся к ней, — обреченный на безнадежность, я жил маленькими надеждами: на минутное утоление боли, на лучик света. Она смотрела на меня с досадой и состраданием, которым можно было воспользоваться. Я усвоил и это.
Она была мила мне. Нет, она была дорога мне! Лучик света не должен был погаснуть — сейчас это было бы невыносимо!..
Говорившая по-русски почти безупречно, она сказала вдруг с неожиданно резким немецким акцентом: «Ты гнешь меня, как металл!»
Мы расстались в шестом часу утра.
— Что ты скажешь другу?
— Скажу, что была у тебя.
— Зачем? Не лучше ли придумать что-нибудь?
Она покачала головой:
— За все надо платить…
Я недоумевал. Едва ли нам предстояло когда-либо снова встретиться. Завтра я должен был уехать в Эрланген, оттуда в Аугсбург и в Мюнхен, затем вернуться в Москву. Поспешная откровенность могла бы только огорчить близкого ей человека, причинить неприятности ей самой.
— Иногда, — убеждал я ее, — мы вынуждены прибегать к святой лжи. Мог ли я, например, открыть своей жене, что у нее рак, что она обречена? Конечно же я все скрыл…
Глядя мне строго в глаза, она сказала:
— Зачем ты это сделал? Человек имеет право знать правду, в том числе и о собственной смерти. Зачем ты лишил ее этой возможности?..
Я проводил ее к выходу. Мы попрощались.
Она села в свой крохотный серый студенческий «рено». Махнула рукой. Еще одно прощание…
В девять утра я звонил по телефону — успел записать номер.
Звонил и из Эрлангена. И из Аугсбурга.
Выступая на вечерах поэзии, я теперь непременно включал в свой репертуар «Колесо Фортуны»: впервые за много месяцев ощутил в себе какое-то движение…
Наконец она позвонила сама: в Мюнхене мы можем провести три дня вместе в квартире ее подруги, которая уехала в отпуск.
…Трое суток я прожил на ничьей земле. Не было для меня Мюнхена, изнывавшего от июньской жары, окна были закрыты снаружи плотными жалюзи, солнце не проникало в дом, и только на башне соседней церкви то и дело бил, бил колокол: первый день, второй день, третий…
Были эти три дня как долгая совместная жизнь: с острой влюбленностью, с узнаванием, с отталкиванием, со своим бытом, с привязанностью, наконец, с разлукой…
На ее жизнь легло много слоев. В самом начале было гетто для перемещенных лиц в захолустном Форхгейме, раннее русское детство среди ненавистных и ненавидящих. Отец пел в эмигрантском казачьем хоре. Мать… Что она могла сказать о своей матери? Это была красивая черноволосая молодая женщина с глазами, горящими безумным огнем. Запомнились пылкие материнские ласки, запомнилось и другое: как мать волокла ее в темные комнаты, запирала, больно стегала прыгалками, иногда пыталась душить. Наташе не исполнилось и десяти лет, когда мать покончила с собой: осенью, в октябре, ночью утопилась в реке.
На этом русское детство кончилось, началось немецкое: вместе с младшей сестрой отец отдал ее в католический монастырский пансион.
Распоряжением архиепископа Бамбергского ей, православной, было разрешено причащаться и исповедоваться по католическому обряду. Считалось, что это большая удача: ее как бы уравнивали с детьми-немцами. Она переставала быть изгоем. Жадно, доверчиво потянулась к католическому немецкому богослужению. В гимназии каждый урок начинался с молитвы. В пансионе Наташа провела шесть лет, испытав жестокое разочарование. Она так и осталась чужой для воспитанниц, для учителей, для монахинь. Когда у девочек что-либо пропадало, подозрение в краже неизменно падало на нее. Во время потасовок ей доставалось больше других.
Она вернулась в Форхгейм к отцу, перевелась в тамошнюю гимназию, в восьмой класс.
Отец был мрачный, нелюдимый человек. Словно из камня. Со своими дочерьми он почти не общался. Наташа так и не узнала, каким образом ее родители очутились во время войны в Германии, как жили в России.
Ей исполнилось шестнадцать лет. Она была влюблена в своего соученика Гюнтера. Отец знал об этом. Однажды поздно вечером он вошел к ней в комнату, присел на кровать, упершись рукой в стену, наклонился, дыша винным перегаром:
— А ну, подвинься!
Она оцепенела от ужаса.
Отец помолчал, подождал. Потом упрекнул угрюмо:
— А Гюнтера бы пустила…
И пошел шатаясь.
Теперь он доживал свой век в доме для престарелых. Ему было 79 лет. Наташа навещала его раз в неделю.
Она заботилась о нем и страшилась за его жизнь.
Но тогда, вскоре после того вечера, она ушла из дома, бросила гимназию, поступила телефонисткой на бумажную фабрику. Жила в крайней бедности, иногда голодала.
Через два года она вышла замуж.
Роберт, высокий плотный австриец, был на десять лет старше ее. Он возглавлял на американской фирме отдел продажи компьютеров для текстильных предприятий. Его, многоопытного, изощренного мужчину, привлекла в ней монастырская наивность, детскость. Впоследствии, в течение всей их совместной жизни, он подавлял ее своим превосходством — до физического отвращения, до рвоты.
Роберт ввел ее в дом своих родителей, где все дышало приторным, кондитерским венским уютом. Отец, бывший гаулейтер крупного австрийского города, был теперь художник, искусно рисовал лошадей. Мать была чем-то вроде целительницы, к ней приходили пациенты, которых она лечила с помощью божьего слова. Семья принадлежала к религиозной секте «Кристьен сайнс» («Христианская наука»). Они не признавали медицины. Материя — всего лишь греховное воображение духа. Всякая болезнь есть болезнь воображения. Если исцелить впавшее в грех воображение, исцелится и плоть. Они были фанатично религиозны. Точно так же как в прошлом фанатично преданы нацистской идее.
Нет, это была не просто семья: целый клан, множество родственников. С недоумением смотрели они на органически чуждое им существо. Мать говорила отцу:
— Мезальянсная ситуация. Впрочем, если Роберт так настаивает, что ж…