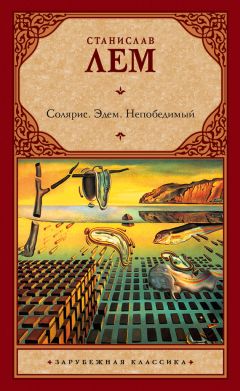10. Мы получили независимость. В спор, на сколько: на 35 или на 70 процентов, я вмешиваться не намерен. Я не знаю также, предприняты ли были в кулуарах министерства культуры и искусства какие-либо шаги для спасения культуры. Поворот в отношении производительности, качества и степени воздействия на общество до уровня межвоенного двадцатилетия был бы попросту интеллектуальной катастрофой, когда журналы типа «Wiadomosci Literackie» достигали на своем пике двенадцатитысячных тиражей, а книги с тиражами в несколько тысяч были польскими бестселлерами! Возможны различные формы спасения. В области книги, например, реализация идеи, с которой я выступал несколько лет назад в ФРГ – адресуя ее, впрочем, Западу, – чтобы популярные и ходовые произведения, но в культурном отношении скверные или никуда не годные (порнография, боевики), обложить налогом, который я назвал «налогом на меньшую ценность», и полученными таким образом средствами финансировать издание произведений ценных с различных точек зрения. Разумеется, эту идею приняли за шутку, потому что коммерциализация охватила все области любого производства на Западе, которой все же, как надеждой на наше будущее, мы на самом деле не должны упиваться. Впрочем, здесь нет места предложению различных форм коллективного и организованного спасения в области искусства и науки. Я могу только заметить, что образование Советов при Президенте, Примасе, при Королевском Замке, или еще при каком-нибудь более прекрасном пантеоне муз, я считаю продолжением мнимой деятельности, т.е. создающей видимость спасения, потому что «и Соломон из пустого не нальет», а прекрасно организованная польская интеллектуальная элита не создаст того, без чего культура ни возраждаться, ни добиваться непрерывности или экспансии на все общество не в состоянии. Существует потребность именно в специальном, четко адресованном законодательстве, которое бы защищало интеллектуальный и художественный, а также научный продукт в той мере, пропорционально которой данный продукт того заслуживает; потребность организации производства, распределения, распространения и такого рода подготовки и образования кадров (например, для книгоиздания), которые в духовной сфере (менее торжественно говорилось бы: в информационной области) являются эквивалентом так сегодня захваленного у нас лекарства от всех экономических болячек – менеджмента. И last but not least[116] : потребность в капитале, или попросту в деньгах; я говорю об этом потому, что могу быть объективным и беспристрастным наблюдателем во всей обсуждаемой здесь сфере: потому что не из этой страны плывут финансовые средства, обеспечивающие мое содержание. И потому за представление интересов собственного кармана осудить меня нельзя.
11. Закончу: не все потеряно, но многое под угрозой. Стихийность делающего первые шаги рынка представляет угрозу культуре. Сила мелких издательств, возникающих будто из небытия, чтобы заманчивой горстью малоценных книг угодить самому распространенному, второсортному вкусу потребителей и ускользнуть с прибылью, – это не зародыш производственной прочности, а сфера, родственная нашим торговцам-туристам! Благодаря культуре, утверждаю, народы возникают и исчезают, все остальное является производным пользы, которую люди получают от интеллектуальных достижений. Это замечание, наверное, не очень оригинально, но именно им я хочу закончить этот перечень к тексту десятилетней давности. Homo sapiens sapiens – это наше название в соответствии с таблицей Линнея. Разумное пользование видовой разумностью – единственный шанс в современном мире, а разум без культуры – как орел без крыльев.
О Достоевском без сдержанности
Перевод Язневича В.И.
Я прочитал эту книгу[117] два раза. В первый раз я ее проглотил. Во второй – медленно проштудировал. Между двумя прочтениями я обратился, так сказать, к противоположному полюсу – прочитал статью Томаса Манна, единственную, которую он написал о Достоевском.
Книга замечательная. Мацкевич имеет превосходство над Манном в том, что не только знает эпоху, но и чувствует ее. Он излагает факты как человек, чье детство прошло в атмосфере царизма девятнадцатого века. Это придает его повествованию эффект близости описываемых событий. Каждую минуту любая, на первый взгляд мелкая деталь, показывает тяжелую, опасную и смешную одновременно, ни на что в мире не похожую архитектонику человеческих отношений в старой России.
Это превосходство и сила Мацкевича становятся иногда его слабостью. Если бы Достоевский просто впитал душную и сложную атмосферу царизма, если бы он сконцентрировал ее в себе до последних пределов и позволил ей управлять своим пером, над его сочинениями нависла бы опасность быть непонятыми зарубежными читателями и потомками. По мере отдаления от этих времен его книги блекли бы, становясь лишь неким паноптикумом гротескных или страшных персонажей и событий, чуждых современному восприятию. Существуют писатели, настолько впитавшие атмосферу страны, которая их создала, что вне ее границ они теряют читателей. Достоевский, оставаясь русским писателем до мозга костей, свободно преодолевает все границы и времена. И тут, парадоксально, несмотря на всю культурную отдаленность, ближе всего к его мировоззрению становится Манн, специализацией которого, если можно так выразиться, была большая дистанция.
Странное копание Мацкевича в подробностях, его сыщицкий талант нахождения жизненных следов Достоевского, страсть к созданию гипотез о прототипах героев романов великого россиянина, порою смелая до неосмотрительности, вся эта его методика тщательной работы над биографией, не уступающая беллетризации, безотказная при представлении запутанных, пространных джунглей корней, которые питали творчество титана русской прозы, не всегда достигает вершин творчества Достоевского.
Могу привести пример: в этой книге, где так много сочных образов, мы вообще не найдем упоминания об одном из самых своеобразных произведений Достоевского, вещи относительно небольшой, стоящей несколько особняком, но, вне всякого сомнения, выдающейся – хотя бы из-за своей необычной рискованности. Я имею в виду «Записки из подполья». По сути дела Мацкевич попросту пренебрег этим произведением – может, потому, что оно, собственно говоря, мало «русское», а может, потому, что его наиболее значимую первую часть, стоящую скорее на границе философско-маниакальной эссеистики, чем в области драмы, представляют «голые», лишенные человеческих героев размышления маленького, растоптанного жизнью человечка, рассказывающего поразительную правду, которой по сей день питается вся «черная» литература мира. Она содержится в этой небольшой книжечке, как дерево содержится в маленьком семени. В этой ожесточенной, наболевшей, с какой-то мазохистской страстью проводимой полемике со всяким общественным оптимизмом, с мелиористами[118] любой масти, Достоевский использует аргументы, которые не утратили силы по сегодняшний день, пережили падение царизма, уход в небытие целой исторической эпохи, потому что были визионерски нацелены на этот человеческий спор, который, скрываясь за различными масками во все времена, не теряет актуальности, а сегодня, ввиду расширяющейся пропасти между достижениями науки и большой к ним неподготовленности человечества, как никогда актуален.
И об этом произведении Мацкевич умалчивает. Загадку такого замалчивания объясняет, пожалуй, то, что я назвал его слабостью. Большим, хотя и отмеченным субъективизмом знанием о духе, месте и времени Мацкевич как бы приковал «своего» Достоевского к русской земле. Более того – а возможно, и в результате того – иногда упрощенным способом он трактовал капитальную проблему «материала», которым пользовался писатель, изображая целую галерею реальных людей – прототипов персонажей произведений. Здесь речь вовсе не о том, являются ли верными и какие именно из этих генетических гипотез. Даже если они не соответствуют действительности, то всегда обогащают наше знание о тех полных противоречий потемках, в которых жил и работал Достоевский. Они ценны как анекдоты, как основа историософических концепций автора, и об одном только следует и стоит спорить при их изучении, а именно: о роли, которую «прототипы персонажей» играли в творчестве Достоевского. Чтобы высказать основной упрек относительно книги Мацкевича, я должен этот недостаток преувеличить сверх меры, и тогда его можно будет сформулировать так: Мацкевич слишком приблизился к русскому исполину, слишком обстоятельно узнавал, открывал, касался в документах почти каждого часа его жизни, и потому перед нами проходит нескончаемый ряд неудач, безумных, постыдных поступков, эротических унижений, пустяков, исполненных отчаяния, которые составляли месяцы и годы гениального творца. Зато сам его гений не столько показываем, сколько называем, и потому, кажется, парит где-то вне книги, которая содержит только намеки на него, густо сдобренные именно генетическими гипотезами.