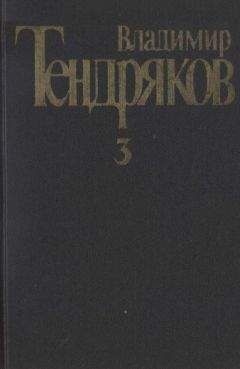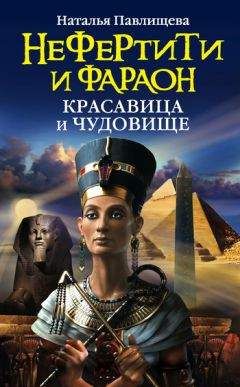Штука долго жевал губами, морщил лоб под козырьком заляпанной побелкой кепчонки, разглядывал эскиз.
— Ты не рехнулся, жучок охристый, — стены красить разным? Это все одно, что штаны носить с разноцветными штанинами.
— Считаешь — плохо? — в упор спросил Федор.
— Не плохо, а чудно как-то.
— Порви, если не нравится. Ты здесь старший.
— Ну, так уж и порви. Больно горяч. А ты вглядеться дай, обмозговать, привыкнуть… Не говорю, что некрасиво. На бумаге всегда получается, хоть пальчики оближи. Но где видано — стены разным…
— Вот и увидят.
— Гм… То-то подивятся… Только ты думал, умная голова, где мы такой краски найдем! Тут колер нужен ясный.
— А где ты найдешь красок для морской волны? Сам же хотел прикупить плакатной гуаши. Купи фиолетовой, разведем с мелом.
— Гм… Дай обмозговать… Гм… А право, будет иметь вид. Котелок у вашего брата варит… Иметь вид будет… То-то слава пойдет… А ну обожди, матушке-начальнице покажу.
Матушка-начальница выплыла в своем несвежем халате — грудь вперед узорной подушкой, голова нечесана. Долго не понимала, глядела в эскиз, как сорока на оброненный гривенник, наконец уразумела и взметнула брови:
— Вы что — в насмешку?.. Дикая фантазия! Какая безвкусица!
Из соседней комнаты появилась она. В лыжном костюме, в громоздких лыжных ботинках; нежную шею закрывал шерстяной, в клетку, шарф. Легким, летящим шагом она пронесла к двери свое бесплотное тело.
— Доченька! — крикливо наставляла ее вслед мать. — Ты не задерживайся допоздна. Слышишь? Не задерживайся!
— Ладно, — раздалось из-за дверей.
Эскиз был небрежно сунут на грязный подоконник.
Наедине с Федором Штука вдруг неожиданно раскипятился:
— Ах, разорви тебя! Без-вку-си-ца!.. Тоже мне, наша фря за попа обедню служит. Без-вку-си-ца! Что ты понимаешь, толстомясая?.. Морскую волну тебе выдай! Да в морскую-то волну нужники нынче красят!..
Федор молчал. Он понимал: у мамы-фараонши вкус древнеегипетский — нравятся золотые багеты. Глупо обниматься.
25
В мастерскую явилась девица-старшекурсница — короткая стрижка, обтянутая джемпером грудь, резкий сипловатый голос — активистка с будущим.
Хлопнула в ладоши:
— Внимание! Внимание!.. Маленькое объявление! Я из профкома. На вашем курсе до сих пор нет профгрупорга. Необходимо срочно наметить кандидатуру. Сами подскажите — кто будет.
— Православный, есть шанс выдвинуться, — подбросил Лева Слободко.
— Старик, я однажды в жизни был уже на руководящем посту — председателем пионерского отряда. Меня с треском сняли, теперь предпочитаю оставаться в тени.
Девица снова властно хлопнула в ладоши:
— Шутки в сторону! Прошу отнестись со всей серьезностью! Предлагайте кандидатуру!
Иван Мыш добросовестно сутулился у своего мольберта, не обращал внимания на настойчивую девицу. Как всегда — все в куче, он в стороне. И Федору пришла в голову мысль: «А почему бы и нет…»
— Выдвигаю! — объявил Федор. — Мыш Без Мягкого Знака!
— Я сказала — шутки в сторону!
— А он и не шутит, — подал голос Вячеслав. — Мыш, покажись кошечке.
— Старик, на авансцену!
— Тащи его!
Увидев мощного парня с покатыми плечами, профсоюзный деятель сменила гнев на милость.
— Возражений нет? — спросила деловито.
Возражений не было. Сам Мыш смущенно чесал концом кисти переносицу и тоже вроде не давал отвода.
— После лекций явитесь в тридцать седьмую комнату.
— Старик, с тебя магарыч. Перед тобой мы открыли новую дорогу.
А неделю спустя на общефакультетском собрании в конференц-зале, к некоторому удивлению Федора, Православного и Вячеслава, Иван Мыш решительно вылез на трибуну.
— Ордера-то, товарищи, любят все получать. А вот как членские взносы платить — охотников нету. По пятам ходишь, выканючиваешь: заплати, Христа ради, у тебя задолженность за четыре месяца. Отмахиваются… А профсоюз, товарищи, играет очень важную роль в нашей жизни…
Иван Мыш говорил длинно и обстоятельно. Лева Православный, сперва слушавший с предельным вниманием — шутка ли, Мыш Без Мягкого в роли оратора, — мало-помалу дремотно сник, заметив Федору:
— Он, без сомнения, способен, старик. Неделя, как избран, а толкает речугу, как будто всю жизнь только этим и занимался, даже в сон сразу бросает…
Федор был доволен и горд. Он спросил Православного:
— Скажи: какая самая благородная профессия на свете?
— Художник, — ответил Православный. — Хорош я был бы, если б иначе думал.
— Нет, врач-исцелитель.
— А ты к чему это, старик?
— Себя сейчас чувствую исцелителем. Любуюсь на Мыша и радуюсь — на трибуне, а еще недавно жаловался: «Все в куче, а я в стороне».
— Радуйся, а я пока подремлю немного.
26
Маляр Штука отвел беду от Федора. Золотые багеты на радость маме-фараонше были прибиты на стены, Федор рассчитался с долгами, купил новые брюки. А новоявленная Нефертити так и ушла в прошлое…
Федор часто провожал Нину, возвращался от нее к утру. Нина жила одна — мать умерла в войну, отец, инженер-строитель, работал на Севере, присылал деньги. Кажется, там у него была новая жена.
Нина об отце не вспоминала, о матери говорила охотно. По ее словам, мать была знаменитой актрисой, в детстве они жили за городом, в старом особняке с запущенным парком, среди кустов малины росли одичавшие розы, дикие белки прыгали по дорожкам… Федор не возражал, особняк так особняк — девчонка любит путать жизнь со сказкой.
Маляр Штука отвел беду, и все стало на свои места — собственные холсты радовали, новые штаны еще не протерлись, долгов, считай, нет, правда, сыт не каждый день, но так ли уж это важно… Наверное, такое и называется счастьем.
Весной к майским праздникам Штука нашел работу за городом.
— Выпускать из рук жаль — пять комнат подновить, и хозяева сговорчивые. Только за три дня не справимся, освободись как-нибудь еще деньков на пяток.
Федор пошел к Валентину Вениаминовичу, объяснил то, что и не требовало объяснения: «Не свожу концы с концами, не подзаработаю — протяну ноги. Помощи из дому нет…»
Отпустили.
От станции шли нагруженные нехитрым скарбом — мешок с рабочей одеждой, с банками краски, бутылью олифы, пачками купороса и казеинового клея да насос-опрыскиватель, завернутый в тряпье. Темнело. Вместе со сгущающимися сумерками крепла пьяная горечь распускающихся почек, замирали звуки.
Стиснутые оградами улочки были пусты, где-то за кустами, за запертыми калитками теплились окна. Вечер — спать еще рано. Вечер, те часы, когда большинство людей на время перестают быть членами великого всечеловеческого общества, забывают о том, что днем они служили в учреждениях, работали на заводах, подбивали смету, управляли рычагами машин, делали совместное дело, чтобы все могли жить. Вечер отдан семье. Вечерами возрождаются первобытные законы кланов. Настольная лампа за чайным столом заменяет древний костер. Царствующий патриарх — отец и хранительница домашнего очага — мать владычествуют над подвластным потомством — Вовочками, Петями, Ирочками. Владыки обсуждают сугубо важный вопрос — почему кашляет Вовочка. Теплятся окна в пахучий предмайский вечер, семьи обособились от семей. И тоскливо становится человеку, идущему по улице, у которого нет семьи, кто оторван от отца и матери, и оторван, наверное, навсегда. Шумный спор над студенческими койками, решающий вселенские задачи, не заменит тихой озабоченной беседы за чайным столом. Теплятся окна, и чувствуешь себя таким же неустроенным, как в окопе.
В темноте вызывающе громко стучат сапоги по утоптанной дороге. Штука оглядывается по сторонам — чем-то обеспокоен.
— Замешкались мы с тобой. Беда как замешкались… — В голосе его тревога.
— Иль в дом не пустят? — спросил Федор.
— В дом-то пустят, да до дому-то надо добраться. Он за пустырем.
— Ну и что?
— Все бы ничего, да…
— Что — да?.. И чего ты головой крутишь?
— Глянь ненароком через плечо.
Федор оглянулся; сзади, в нескольких шагах, маячили в темноте две фигуры.
— Не играй труса раньше времени. Может, такие, как мы с тобой.
— Ой, навряд ли… Давно за ними поглядываю. Балуют тут… После войны — не к ночи будь помянуто — развелось разной шпаны. Ишь, прижимаются…
— Ну и что? С нас много не возьмут.
— Откуда им знать, что идет голытьба перекатная. Видят — мешок несут. Остановят, надсмеются, сапоги поснимают.
— Свои сапоги я им с поклоном отдам, лишь бы на рожи их поглядеть.
— Поднажмем, сынок, может, оторвемся. Тут за пустырем и наша дача.
— Нет, шалишь, не дождутся, чтоб бегал. Подойдут — побеседуем.
А сзади слышен напористый стук каблуков.