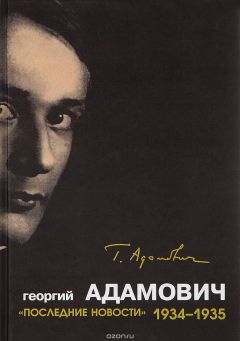Конечно, Гоголь был слишком замученный, истерзанный человек, чтобы к его внутренней боли требовались еще какие либо внешние добавления, — как, на другом идейном полюсе, не нуждался в них и Блок в 1918 году, после «Двенадцати». Каким бы Хлестаковым он, по собственному своему признанию, ни «размахнулся» в «Переписке», чернила, которыми писана эта книга, смешаны с кровью… В этом ошибиться нельзя. Как «человеческий документ», как психологический факт, «Переписка» — книга потрясающая. Другое, совсем другое дело — наличие в ней пути или указания.
По Зайцеву — толстовский путь бесповоротно кончен, гоголевский — хоть и еще неясно как — может быть продолжен. Утверждение ничуть не неожиданное, одно из тех, которые сейчас «носятся в воздухе», встречают отклик и совпадают с разными «пореволюционными» тенденциями… Но как оно шатко, — если не то что вдумываться, а вжиться в него, — и каким грозит очерствением и помрачением! Ведь о том, чтобы Гоголя, действительно, можно было «продолжить», серьезно говорить нельзя: такие феномены, такие «больные звери» (по Тургеневу) рождаются раз в тысячу лет, и живут они по своим законам, никому, кроме них, неведомым и недоступным. Поэтому, и следование Гоголю возможно только механическое, мнимое, и за ним может произойти такой взрыв подавленных, непобежденных страстей, что никакие домостройные наставления не помогут!
Подумаем о Толстом. Конечно, «толстовство» не совсем состоятельно, — кто же спорит? Но глубочайшая суть его вовсе не в непротивленческих рецептах или воздержании. Суть в том, что за ним — вся жизнь, как бы сгущенная в единственном жизненном опыте одного человека, Льва Николаевича, успевшего на своем веку побывать и Наташей Ростовой, и Пьером Безуховым, и Анной Карениной, и даже Холстомером. Не важно, что Толстой, может быть, ошибся в своих поучениях, — важно, что поучения эти возникли, в результате погружения в самую толщу бытия, и что они ей отвечают. Я сказал, что Толстой не написал бы «Тараса Бульбу». Добавлю, что он не посоветовал бы помещику-ра-бовладельцу укрощать своих строптивых рабов при помощи чтения Евангелия… Он испугался бы, приди ему в голову такая дикая мысль, ее фантастической надуманности, ее очевидной лживости, при проверке реальным понятием о жизни. В «толстовстве», со всей его ограниченностью, есть все-таки движение, есть душевный подвиг общечеловеческого значения, и, если угодно, есть «путь». Прошла или не прошла на него сейчас мода, — вопрос, право, второстепенный… Между тем как в горестном и необычайном жизненном деле Гоголя есть только судорога, и, наряду с самыми высокими порывами, есть и полное забвение самых простых и насущных человеческих нужд.
Одна фраза Зайцева показалась мне чрезвычайно верной: «У Гоголя было больше страха, чем любви». Вот именно! А ведь все-таки любовь, а не страх, — «движет солнце и другие звезды», и все-таки любви, а никак не страха, людям недостает.
Нередко приходится слышать: «Писать для детей очень трудно».
Мысль, по существу, верная, однако, не точно выраженная. Надо было бы выразиться иначе, приблизительно так: «Мало кто обладает способностью писать для детей…».
У кого этот дар есть, тому писать для детей крайне легко, а у кого нет его, тому никакие усилия, ни мастерство не помогут, — и, пожалуй, даже, чем больше будет усилий, тем недостижимее станет цель, Незачем это долго и подробно разъяснять какими-либо теоретическими соображениями, — достаточно вспомнить, что существуют люди, которые не умеют с детьми говорить. Считать, что это бездарные люди, — невозможно. Иногда это люди бесспорно выдающиеся, умные, творческие. Но какого-то ключа к детской психологии у них нет, и даже со стороны бывает неловко смотреть, как они беспомощно-деланно щебечут и ломаются, вызывая в ответ только скуку. Корней Чуковский написал когда-то на эту тему несколько остроумнейших страниц… Вот, кстати, образец особой, специальной, детской одаренности, — Чуковский: писатель далеко не первоклассный сам по себе, но с природной интуицией, которая позволяет ему проникать в области, для многих других недоступным. Интуиция сказывается, конечно, и в критических работах Чуковского (например, в прекрасных статьях о Некрасове), она нередко выручает его в трудную минуту, — но особенно наглядна в его детских сказках. Мне пришлось лет двенадцать тому назад наблюдать, как дети, — совсем маленькие, «дошколята», — слушают Чуковского… Он сразу оказался с ними в каком-то заговоре, он им подмигивал, улыбался, будто тут же сидящие взрослые не должны даже и знать, какие у него с ними тайны. Потом началось чтение. Два-три слова, — и поднялся хохот. Дети едва ли сразу схватывали смешное, но были уверены, что смешно будет, непременно должно быть; они смеялись, так сказать, «в кредит», — и не обманывались. Чуковский создал в России целую школу детской литературы, — и она сейчас там процветает, оставаясь более или менее свободной от цензурной опеки и не вызывая тех бурных критически-полицейских страстей, которые свирепствуют вокруг литературы взрослой.
Впрочем, говоря о расцвете, надо иметь в виду только литературу для детей самого младшего возраста. То, что сейчас в России сочиняется для школьников (или, как недавно было сказано на повестке одного из здешних эмигрантских собраний, — для «мальчиков юношеского возраста»), наводит на мысли значительно более печальные. Дает себя знать в этой отрасли и необходимость «идеологически четкой установки», и обязательность «увязки» с заветами Ильича и другими незыблемо-скрижальными ценностями того же рода. Книги пишутся, как по рецепту, — в то время как для малышей рецепты еще непригодны. Да и помимо тенденциозной предвзятости, в этой полудетской-полувзрослой литературе смущает нарочитость и условность построения, стиля, склада. В девяносто девяти случаях из ста читаешь ее мучительно, и впечатление остается тягостное, как от всякой фальсификации. В советской критике давно уже поднят поход против Чарской, которая со своей «Княжной Джавахой» и «Людой Власовской» имеет, будто бы, до сих пор огромный успех у русских детей. Походу этому нельзя не сочувствовать, но справедливость требует признать, что Чарской почти ничего не противопоставлено. Если вместо институтки с чарующим точеным носиком и пунцовыми, как вишня, губками, мечтающей о том, чтобы сделаться принцессой, героиней повести оказывается душка-комсомолка, умирающая за советскую власть от пули предате-ля-белогвардейца, то, право, смеяться над Чарской нет причин… А другие советские книги для детей часто похожи на плохие сочинения для взрослых. Было несколько восторженных отзывов о «Швамбрании» Кассиля: один из московских беллетристов выразился даже, что это «советский Гофман». О вкусах, как известно, не спорят. Но, признаюсь, я этого нового Гофмана еле дочел до конца, из-за нестерпимого, назойливого, в каждой строке очевидного желания автора рассмешить, «распотешить» читателя. Не буду, однако, отвлекаться. Оставим беседы о литературе старшего возраста до другого раза. Поговорим — о младенческой.
Кроме Чуковского, в этой области надо отметить имена Барто, Маршака, Введенского… Они все напоминают друг друга. По-видимому, в России сейчас создался своего рода «канон» для сказок. У всех — тот же стиль, те же приемы. К чести автора надо добавить: та же простота, та же непринужденность.
Мне кажется, что лучшей из творческих находок, — или, если угодно, «достижений», — надо признать простоту и непринужденность замысла. Рассказ возникает как бы «из ничего» и никуда не ведет. Комизм, если и не очень ярок и силен, то не притянут за волосы. По методу Чуковского, рассказчик не насилует воображения ребенка, а только подмигивает ему, приглашает его в сообщники… Есть в этих бесчисленных коротких, изданных большею частью отдельными тетрадками, рассказах какой-то «ветерок свободы», которого не найти в других теперешних русских книгах, с пометкой «Москва» на обложке. Парадоксально было бы утверждать, что именно в этих пестрых книжках с картинками литература ищет выхода и спасения от указки, от унылого проповедничества, от тиранической идейной элементарщины, — но в нашу эпоху столько парадоксов оказалось истинами, что отчего не допустить и такое предположение?
Одна из популярнейших в России сказок — «Путаница» Чуковского. Ее можно было бы назвать «все наоборот».
Котятам надоело мяукать, — захотели хрюкать. Утята не желают больше крякать: давай квакать! Воробей замычал коровой, медведь кричит ку-ка-ре-ку! — и так далее.
Рыбы по полю гуляют,
Жабы по небу летают,
Мыши кошку изловили,
В мышеловку посадили.
А лисички
Взяли спички
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.
Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит:
«Эй, пожарные, бегите,
Помогите, помогите».
Из беды выручила бабочка. Помахала крыльями, — море и потухло. Тут опять водворился порядок.