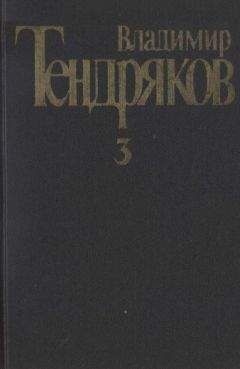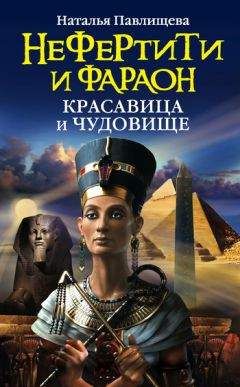Старик взял в руки портрет, нарисованный Федором, долго, долго вглядывался в него, распустив свои мягкие морщины.
— Я скоро умру… — сказал он. — Мою человеческую коллекцию выбросят в помойку… Умру, а жизнь не остановится. Вот и она, наверно, будет мучиться совестью за людей. Как?.. Чем?.. Я уже не узнаю. Я скоро умру, но мне не безразлична судьба тех, кто будет жить после нас. Ох, как не безразлична!
Вошла мать девочки, как всегда по вечерам, утомленная, с бледным, в зелень лицом, обрамленным темными волосами, с глазами, горячо поблескивающими из-под суровых бровей. Тяжелой, деревянной походкой она подошла к столу, безучастно взглянула на разбросанные портреты своих предков, сказала глухо:
— А эта, из пятой палаты… женщина с циррозом… скончалась.
И вдруг Штука, стеснительно сидевший на краешке стула, вскочил, взволнованно влез пятерней в волосы.
— А я, как скот, всю жизнь ради рублишка…
И смутился, отвернулся, насупившись.
Старик вздохнул, а женщина обронила устало:
— Давайте нить чай.
Пили чай и слушали радио, передававшее последние известия.
На юге страны закончен сев зерновых…
Коллектив тракторного завода досрочно сдал в эксплуатацию сборочный цех…
Зверства гоминдановцев в Китае…
Из Хиросимы продолжают поступать сведения о последствиях взрыва атомной бомбы: больницы переполнены, смертность не уменьшается, ряд ученых высказывается о влиянии радиоактивного распада на наследственность…
А за окнами, над крышей, шелестели сухой неопавшей листвой дубы. А на письменном столе, сдвинутые в угол, лежали портреты людей — маленькая ветвь в пышной кроне человечества. Давно уже нет на свете этих людей. Сверху — портрет девочки, которая только еще начала жить.
Старик негромко сказал:
— Война кончилась, но война не сходит у всех с языка.
— Не кончилась, — возразила дочь.
И старик вздохнул:
— Что-то будет?..
Нет, не безразлична судьба тех, кто станет жить после нас. Лежит портрет девочки с круглыми щеками и мягким сиянием под ресницами.
Испытания атомной бомбы… Ходят слухи о какой-то новой, еще более чудовищной бомбе… Ходят слухи о том, что женщины в Хиросиме рожают уродов… Влияние радиоактивного распада на наследственность. Что-то будет? Завтрашний день обещает быть сложным.
А он, Федор, живет лишь этим завтра. Ради него он торчит перед мольбертом, во славу его радуется своим успехам, ради него белит потолки со Штукой, чтобы дотянуть, сохранить силы, встать на ноги… А пригодятся ли его силы, его способности?.. Готовится расписывать на холсте солнечные блики, глубокое небо, сочную зелень, а отец из деревни Матёра жалуется — нет хлеба. Собирается создавать полотна, воспевающие величавость планеты и благородство людей, а где-то на секретных заводах даровитые люди начиняют бомбы ужасной смертью. И запасов этой смерти копится все больше и больше.
Часы на стене неторопливо качают медный маятник, отсчитывают секунду за секундой — крохотные шажки вперед, в неизвестность. Шевелят листвой дубы за ночным окном, они так же шевелили ею и забытыми зимами прошлого века. Портрет девочки лежит на столе. Сама девочка спит в соседней комнате, спит крепко, счастливая своим неведением. Где-то неподалеку ходит Мишка Котелок, ожесточившись против людей…
Радио деловито сообщает новости со всего земного шара.
1
Памятник Пушкину напомнил вдруг Федору окоп, пропеченный солнцем, кирпичную школу, двор, исковырянный снарядами, усеянный белыми листами бумаги, катающийся от взрывов глобус — макет голубой планеты — и дядю Ваню из книги, заброшенной на бруствер. Бывают же странные ассоциации.
В холодной, летающей сетке падающего снега горели теплые фонари. Снег покрывал бронзовые кудри поэта, его крылатку, землю — близкую, по недоступную с высоты гранитного постамента. Близкая — три метра от бронзовых туфель. Недоступная — три метра и вечность.
Поэт должен завидовать Федору — Федор на земле, живой среди живых.
А ведь был когда-то окоп, осыпающийся песок, неприкаянно мечущийся глобус и растерзанный дядя Ваня, ужасающийся, что ему еще много лет осталось до смерти. Федор свирепо завидовал ему, не знающему, что такое вой снарядов. Завидовал тем, кто после него будет жить. Счастливцы из счастливцев. После него…
Окоп во дворе школы — он теперь далек и неправдоподобен. И ходят вокруг те счастливцы, которым завидовал.
Бронзовому поэту невдомек, что вот уже два года прошло, как отменили карточки, — входи в булочную, вынимай деньги и покупай хлеб сколько нужно, ешь досыта…
А из деревни пишут — умер Алексей Опенкин, на всю Матёру теперь остался только один мужик, отец Федора…
Разрушенные войной города давно уже прибрали со своих улиц битый кирпич, сровняли воронки, залили их гладким асфальтом. Руины обрастают стеклом и бетоном. И, наверно, та разбитая, сожженная школа, возле которой был вырыт окоп Федора, сияет обновленными окнами, где-то внутри стоит новый глобус и на новых полках хранятся новые издания чеховского «Дяди Вани» рядом с томиками Пушкина.
Бронзовый поэт, твое имя чтут, вот и сегодня, среди зимы, кто-то положил у твоего заиндевелого пьедестала скромный букетик живых цветов. Книги твои держат миллионы рук, стихи сейчас доступны каждому.
Но в одном детском издании «Сказки о царе Салтане» вместо слов «За морем житье не худо…» стоят точки. Сочиняя свою сказку, ты, поэт, не учел, что дети не должны расти в духе низкопоклонства перед заморским житьем-бытьем.
И стало модным слово — космополиты. И шепотом передаются зловещие слухи, что в одном из родильных домов — только в каком, не уточнено — раскрыта организация — умерщвляли новорожденных…
Идут люди мимо бронзового Пушкина, большинство из них сыты и тепло одеты, они уже забыли такие слова, как «похоронная» и «комендантский час».
Окоп и неприкаянный глобус в прошлом, а дядя Ваня стал чуточку понятнее.
Мельтешат частые снежинки, и горят фонари. Пробирает холод, и кричит мороженщица:
— Мороженое! Мороженое! Горячее мороженое!
Вырос как из-под земли Лева Православный:
— Ты один?
Лохматая собачья шапка с опущенными ушами, запотевшие стекла очков, под носом мокро, плечи подняты, руки без перчаток глубоко засунуты в дырявые карманы, на месте стоять не может — с ходу начинает приплясывать солдатскими ботинками с загнутыми носами: «Жил Чарли безработный, ходил всегда голодный…»
— Опаздывают, черти… Скучал?
— На памятник любовался.
— Старик! Ты мне напомнил!.. Сейчас в одном доме видел фотографию проекта памятника Юрию Долгорукому, основателю Москвы-матушки…
Ну и как?
— Князю по-княжески — и жеребца, и сбрую, и латы…
— Почему это считают, что основать что-либо можно только верхом на жеребце да в латах?
— Вот именно, старик, вот именно! Основал-то Москву какой-нибудь мужичок-лапотник, не мечом, а топориком. Я посмотрел и даже расстроился…
— Обиделся за мужичка с топором?
— Старик, тому древнему мужичку плевать. За себя обиделся!
— Ты-то в чем виноват?
— Говорят — потомки рассудят. Потомки — высший критерий справедливости. А мы как рассудили — мужичка в шею, князя на жеребца. Я же тоже вроде потомок… Обидно… Ну, где же все?
Сговорились идти в гости к одному любителю живописи — Эрнесту Борисовичу Милге. Вече Чернышев провожал на вокзал армейского друга, Лева Слободко ехал из дому от Сокольников, Иван Мыш задерживался на каком-то заседании. У всех причины, но уже все сроки вышли. Холодно.
— Мороженое! Мороженое! Горячее мороженое!
«Жил Чарли безработный…»
Первым наскочил на Эрнеста Борисовича Милгу Лева Православный, а на следующий день он потащил к нему всю компанию — Федора, Вячеслава, Слободко и Мыша.
Это случилось недели три назад. С тех пор частенько заглядывали в гости.
Милга — ученый с громким именем, член-корреспондент Академии наук, в каком-то институте руководит лабораторией биохимии. У него — самая большая в Москве из частных коллекция современной западной живописи. Он эрудит в этой области, не так давно высокие специалисты ездили за консультацией к нему. Теперь ездят неохотно — западная живопись, да еще современная, не в ходу. Эрнест Борисович с высокими специалистами обходится довольно холодно, любит молодежь — чем богемистей она, тем больше может рассчитывать на гостеприимство.
В первый раз Федор шел, как в храм, ждал — обступят его со всех сторон чинные полотна, тяжелые рамы в тусклом золоте, мудрые лики с портретов. Шел, как в храм, с молитвенным настроением. Одно то, что его, паренька из глухой деревни, вчерашнего солдата, принимает у себя в доме известный ученый, настраивало на серьезный лад.