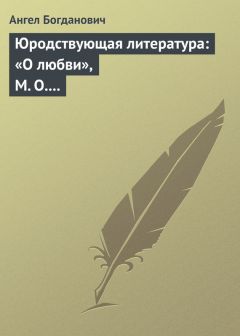Свою реформу нашей школы онъ заканчиваетъ слѣдующимъ пожеланіемъ: "Итакъ, мы думаемъ, что достаточно, если одна половина христіанскаго міра (западно-европейская) отдала дары своего первородства за человѣческую похлебку; у насъ же пусть лучше останется мякинный хлѣбъ и христіанство. Вѣдь несомнѣнно, что именно ихъ сознательно и твердо избираетъ и желалъ бы покончить на вѣки этотъ вопросъ народъ нашъ. Не будемъ же опять лукаво подходить къ нему, чтобы, оставивъ ему тлѣнныя вещи, которыя и намъ не нужны, украсть у него нетлѣнное сокровище. Оставимъ ему его общину, холщевую самодѣльную рубаху, и дадимъ, чего онъ въ правѣ требовать и мы не въ правѣ отказать, три десятины на душу" (стр. 87–88). Читателя не должна удивлять манера г. Розанова – говорить отъ имени всего народа русскаго. Это обычная манера юродствующей литературы – превозноситься до олицетворенія въ себѣ Бога, если рѣчь идетъ о вопросахъ вѣры, какъ это дѣлаетъ г. Меньшиковъ, предавая анаѳемѣ чувство любви, или народа, если дѣло касается народныхъ воззрѣній. Нечего спрашивать у г. Розанова, гдѣ и когда народъ "сознательно и твердо" пожелалъ отказаться отъ общеобразовательной школы въ пользу уродливой затѣи г. Розанова съ "Синопсисомъ" вмѣсто учебниковъ, безъ учителей и безъ программъ? Или кто уполномочилъ г. Розанова такъ просто рѣшить за народъ сложнѣйшій экономическій вопросъ объ общинѣ и трехъ десятинахъ на душу, – "оставимъ" ему! Кто это "мы", столь могущественные, что достаточно "намъ" сказать "да будетъ" – и община останется у народа неприкосновенной плюсъ три десятины земли?.. И съ какихъ это поръ русскій народъ получилъ въ монополію христіанство? На такіе вопросы гг. Меньшиковы и Розановы не отвѣчаютъ, просто потому, что все время они витаютъ внѣ времени и пространства. Иначе тотъ же г. Розановъ вспомнилъ бы, что нигдѣ еще "простолюдинъ" нашъ не отказался отъ современной школы, которая наполнена и переполнена, что никто еще у народа общины не отнималъ и не отниметъ. Что же касается трехъ десятинъ, то ихъ мы готовы приписать всецѣло доброй душѣ г. Розанова и охотно ему посочувствуемъ.
Таковъ "свѣтъ", которымъ желалъ бы осіять нашу народную школу г. Розановъ. Думаемъ, что всякая критика здѣсь излишня. Въ своемъ усердіи г. Розановъ, что называется, перехолопилъ. Въ самомъ дѣлѣ, какова ни на есть современная церковно-приходская школа, все же она неизмѣримо выше этого "идеала" съ "Синопсисомъ" вмѣсто "развратной литературы" руководствъ, съ тремя китами вмѣсто "развращающихъ" начатковъ міровѣдѣнія, безъ особыхъ учителей, безъ программъ и всякаго контроля. Есть въ этой школѣ и руководства, и программы, и учителя. Правда, все это далеко отъ совершенства, но самый плохенькій учебникъ, по которому учатъ въ церковно-приходской школѣ, лучше чудовищнаго "Синопсиса". По крайней мѣрѣ, хоть трехъ китовъ тамъ нѣтъ. Противъ "Синопсиса" возсталъ даже г. Иловайскій, и мы въ этомъ случаѣ всецѣло на его сторонѣ.
Опять-таки это общая черта у всѣхъ юродствующихъ писателей. Они ужъ если начнутъ, такъ хватитъ что-нибудь такое, что всѣ ихъ присные готовы отъ стыда сгорѣть. Отсутствіе мѣры и такта и излишекъ ревности доводятъ ихъ обыкновенно до неприличія, какъ свидѣтельствуетъ далѣе все тотъ же г. Розановъ.
Приступивъ къ реформѣ средняго образованія, онъ обрушивается на гимназіи, мужскія и женскія, находя, что онѣ только губятъ всѣхъ и ничего не даютъ никому. Больше всего его возмущаетъ смѣшанность въ нихъ учениковъ, и онъ предлагаетъ раздѣлить среднюю школу на два типа, какъ видно изъ слѣдующаго резюме его учебнаго плана: "Должны быть открыты для мірянъ параллельные курсы съ тѣми, какіе проходятъ будущіе священники церковнослужители, гдѣ то, что ими изучается, и только это одно, изучалось бы въ степени очень ослабленной. Тотъ же самый душевный строй, устремленіе вниманія къ тѣмъ же предметамъ, наученіе достаточное, чтобы прибавить къ сердечному слушанію литургіи и слушаніе разумное, – вотъ все, что здѣсь удавалось бы каждому и къ чему для даровитыхъ прибавлялись бы и всѣ сокровища христіанской культуры. Нѣтъ сомнѣнія, что для самыхъ людныхъ классовъ городского населенія, для ремесленника, для мѣщанина, для именитаго купца, съ тарелкой собирающаго подаяніе въ церкви, для всѣхъ этихъ людей, столь неожиданно изумленныхъ міромъ Ѳемистокловъ и Лициніевъ, свѣченія моря и вертящейся земли, этотъ міръ (курсивъ г. Розанова) евангельскихъ притчъ и житій святыхъ, чудной исторіи объ Руєи и поученій Іисуса сына Сирахова былъ бы и неудивителенъ, и глубоко родственъ, и,– мы увѣрены въ этомъ,– не менѣе культуренъ. Такимъ образомъ, средняя классическая школа, какъ это и слѣдуетъ, осталась бы школою для классовъ, уже вышедшихъ изъ культуры только христіанской (т. е.,– поясняетъ г. Розановъ въ примѣчаніи, – для дворянства и бюрократіи, безъ искусственнаго привлеченія, черезъ "преимущества", другихъ классовъ); эта же послѣдняя осталась бы воспитательной для всѣхъ остальныхъ классовъ населенія… Воспитаніе женское, сообразно установившемуся уже историческому теченію (?!), должно быть для городского населенія также двояко: для массы оно должно быть церковное, для нѣкоторыхъ, т. е. также для дворянства и для бюрократіи, то особенное, нѣсколько исключительное, нѣсколько искусственное, но, во всякомъ случаѣ, дѣйствительно образующее, какое дается нашими институтами" (стр. 51–52). Типомъ женскихъ церковныхъ школъ г. Розановъ рекомендуетъ епархіальныя училища, хотя съ горечью и сожалѣніемъ замѣчаетъ: "Они (епархіальныя училища) нѣсколько испорчены только своимъ сближеніемъ съ женскими гимназіями, какъ и семинаріи испорчены черезъ сближеніе со свѣтской школой,– не потому, что она классическая, но потому, что она совершенно не выдержана въ своемъ классическомъ строѣ. Изъ курса епархіальныхъ училищъ, какъ и изъ курса семинарій должны быть удалены физика, космографія и,– я глубоко убѣжденъ въ этомъ,– также геометрія и алгебра" (прим. 2, стр. 51)..
Не правы ли мы, говоря, что откровенность г. Розанова,– или его усердіе, не знаемъ, что лучше и вѣрнѣе,– доходитъ до неприличія? Едва ли кто изъ его единомышленниковъ, за исключеніемъ, конечно, г. П. Перцова, его издателя, рѣшился бы откровенно высказать пожеланіе – изгнать изъ средней школы "для массы" вышеназванныя науки, "весь міръ Ѳемистокловъ и Лициніевъ, свѣченія моря и вертящейся земли". По крайней мѣрѣ, до сихъ поръ это первое громкое и откровенное признаніе, и что бы ни случилось затѣмъ, г. Розанову купно съ г. Перцовымъ надлежитъ пальма первенства за открытое гоненіе на "міръ вертящейся земли",– вмѣстѣ съ тѣмъ и за открытіе такого міра.
Но г. Розановъ и его вѣрный Санчо Панса, г. Перцовъ, на этомъ не останавливаются. Какъ истинно русскіе люди, они не знаютъ предѣла въ своемъ размахѣ и выступаютъ подъ конецъ совсѣмъ au naturel.
Давъ планъ образованія, они не могли не коснуться и воспитательной стороны бѣднаго человѣчества, и такъ какъ ихъ идеалы назади, то г. Розановъ спокойно и безстрастно заявляетъ, а г. Перцовъ почтительно печатаетъ: "Мнѣ не кажется излишней въ школѣ суровость; я не отвергаю (и думаю, напротивъ, что даже должны быть возстановлены въ ней) физическія наказанія" (стр. 98). Опасаясь, чтобы его не поняли превратно или иносказательно, г. Ровановъ на стр. 181, примѣчаніе, поясняетъ:
"Въ бытность мою учителемъ гимназіи и вмѣстѣ класснымъ наставникомъ, ко мнѣ, какъ къ послѣднему, нерѣдко являлись матери учениковъ (всегда вдовы) съ просьбой наказать розгами (т. е., чтобы это было сдѣлано въ гимназіи) своего разбаловавшагося мальчугана: "сестеръ колотитъ, меня не слушаетъ, ничего не могу сдѣлать", и проч.; я, конечно, объяснялъ, что это запрещено всѣми параграфами, но, зная конкретно мальчишку способнаго и, что называется, зарвавшагося, потерявшаго голову отъ баловства, всегда давалъ совѣтъ – обратиться къ кому-нибудь по сосѣдству или изъ родственниковъ и больно-больно высѣчь его. И теперь, когда мнѣ приходится видѣть въ богатой и образованной семьѣ лимфатическихъ дѣтей, киснущихъ среди своихъ "глобусовъ" и другихъ "пособій", я всегда, вспоминая и свое дѣтство, думаю: какъ бы встряхнулись они, оживились, начали тотчасъ и размышлять, и чувствовать, если бы, взамѣнъ всѣхъ этихъ для ихъ любознательности расшпиленныхъ букашекъ и запыленныхъ минераловъ, разъ-другой ихъ самихъ вспрыснуть по-старому. Все тотчасъ бы перемѣнилось въ "обстоятельствахъ": и впечатлительность бы пробудилась, и сила сопротивленія требуемому,– именно оживился бы (курсивъ г. Розанова) духъ, который теперь только затягивается какою-то плѣсенью подъ музыку все поученій, поученій и поученій, все разъясненій, разъясненій и разъясненіи. Розга – это, наконецъ, фактъ; это – насиліе надо мною, которая вызываетъ всѣ мои силы къ борьбѣ съ собою; это – предметъ моей ненависти, негодованія, отчасти, однако же, и страха; въ отношеніи къ ней – я, наконецъ, не пассивенъ; и, уединившись въ себя отъ тѣхъ, въ рукахъ кого она, – наконецъ, свободенъ, то-есть, свободенъ въ душѣ своей, въ мысли, непокоренъ ничему, кромѣ боли своей и негодованія. Я серьезно спрашиваю: чѣмъ, какими коллекціями, какими иллюстраціями и глобусами можно вызвать эту сложную и яркую работу души, эту ея самостоятельность, силу, напряженіе? Что касается "униженія человѣческой природы", будто бы наносимаго розгой, то вѣдь не унизила она Лютера, нашего Ломоносова; отчего же бы унизила современныхъ мальчишекъ?"