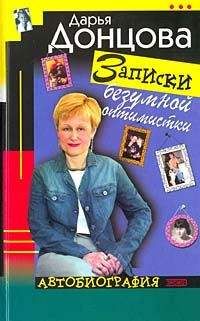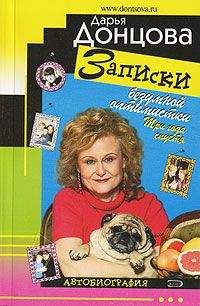В чем же здесь трагичность? Разве желание иметь “светлый дом” трагично? Разве примитивность, глупость ее творчества, в конце концов, не автономны? Нет, увы. Желание иметь дом, разумеется, не трагично, но трагична сделанная из этого самоцель, а главное, пути ее достижения. Биография благополучия, если оно уже достигнуто, для Донцовой не имеет значения. Любую реализованную возможность законно заработать деньги она авансом относит к заслугам. При этом она оценивает труд не изнутри, не по присущим ему внутренним эталонам качества, а скорее по тому денежному результату, который за него можно получить. Отсюда берет начало та универсальность ее суждений, когда дело касается вопросов брака, наследства и карьеры. Для нее труд неиерархичен в том смысле, что его качество ничего не определяет и ни на что не влияет. Имеет значение только самочувствие дуэта “популярность—деньги”. Тонна отлитой стали или написанная за две недели книга — это один и тот же конкретный завершенный продукт, за который получены деньги и к которому больше нет необходимости возвращаться. Вопрос о его осмысленности или том же качестве просто не возникает. Факт ее собственной популярности самодостаточен, он не нуждается в дополнительных оправданиях. Он скорее сам все оправдывает. И если за созданный текст платят больше, чем за времяпровождение у котла, то, значит, это твоя заслуга, ты молодец, что вовремя попал на хорошее место. Подобное мышление находится в русле общезападного, так что Донцова в этом смысле просто шагает в ногу со временем.
Но ее трагичность в том и состоит, что она иронична не до конца. Ее ироничность не может скрыть конкретных посланий. В оборот ее повествования введены вещи, которые не допускают иронии, которые защищены надежнее, чем преходящие комедийные декорации. Что это за вещи? Например, человеческая жизнь. Убийство любого человека в ее романах априорно допустимо, а само убийство не несет никакой “достаточной” в рамках сюжета нагрузки. Оно просто есть, потому что оно должно быть, а почему оно должно быть — не обсуждается. Необходимость убийства причем уже не воспринимается как требование жанра, поскольку для требований жанра фантазия автора оказывается слишком избыточной. Более того, некро-романтика Дарьи Донцовой, вероятно, вообще представляет собой единственную движущую силу ее творчества. В ее книгах по-настоящему различен только вид умерщвления, все остальное — это однообразная масса диалогов, посторонних размышлений и мнимого многообразия ситуаций, нанизанных на факт чей-то смерти.
Но это только одна сторона трагичности, к тому же до некоторой степени условная. Это трагичность патетическая, исходящая из идеи, что литература может воспитывать и влиять, что сегодня совершенно не очевидно. Раз это неочевидно, то нет никакого права устанавливать связь между чтением книг Донцовой и реальным криминалом. Эта связь может существовать бессознательно, но на нее, как на виновницу, трудно показать пальцем. В конце концов, бессознательное — не объект. Кроме того, коль скоро мы условились, что внутри изящной словесности к Донцовой не может быть претензий, то осуждение убийств, конечно, имеет определенный смысл, но всегда может быть сочтено несостоятельным. Во-первых, в реальности писательница не имеет отношения к убийствам. Следовательно, состава преступления нет. Во-вторых, само ее творчество довольно легко может быть переведено в область чего-то надлунного и там, вдали от быта, соединено с представлениями о чем-то важном во вселенском масштабе. С точки зрения духа, убийство и смерть, по меньшей мере, обсуждаемы. Вдобавок для защиты могут быть привлечены аргументы абсурдизма. Так что изящность в словесности — это одновременно изворотливость.
Но существует и другая сторона трагичности. Ее представляет та часть авторского послания, безнаказанность которого легитимирована самой жизнью. Голос Донцовой созвучен исканиям большинства, которому точно так же, как и ее героям, мало двушки в столице и крохотной дачи за городом. Донцова методично и безустанно забивает свой собственный девятидюймовый гвоздь в то, что можно было бы назвать “системой небуржуазных ценностей”. Все ценности Донцовой буржуазны. Даже любовь к семье — это почти всегда что-то связанное с подарками, вещами и планами на недвижимость. Все постоянно вертится вокруг каких-то квартир, которые кто-то купил или продал, дач, попыток быстро заработать, устроиться получше, что-то выиграть. Быт гламуризован, люди мыслят себя на основе вещей, которыми можно украсить дом или лицо. Гламур как блеск овеществленности — это вообще экзистенциальная смерть, так что в таком смысле романы Донцовой действительно повествуют о трупах.
В итоге ее книги либо утешают примерами других, кому еще хуже, либо дают стимул к борьбе. Не исключены, конечно, и случаи самодостаточных бедняков, которые одарены универсальной симпатией автора, но эта симпатия ничего не значит в силу своей непоследовательности. Главная идея Донцовой — это, разумеется, достижение того самого счастья, которое в общем случае нематериально. Формула “не в деньгах счастье” приобретает статус почти категорического императива. Но на деле путь к “счастью” все равно оказывается лежащим через “успех”. Самодостаточное бедняцкое счастье не обладает сюжетообразующим потенциалом, поэтому в общем случае автора оно не интересует. В итоге невещные истины время от времени можно встретить только там, где им полагается, — в моралите, наподобие того, каким заканчиваются “Записки оптимистки”. Суть моралите в оптимизме. Ничего больше. Над ним разве что витает тень предваряющего ее басенного сюжета. Обычные общие, почти законодательные изречения, не рассматривающие частностей. Их можно было бы счесть пустословием, если бы за ним не стоял реальный опыт автора, так ценимый нами в век информации. Собственно, наша издерганная жизнь сама порождает спрос на оптимизм. Но разве не трагично, что для его удовлетворения становится достаточно общих фраз?
Картина мира по Донцовой
Прежде всего, этот мир ограничен. Но он ограничен не в естественном смысле, не в том смысле, в каком ограничена любая книга, коль скоро она не может быть написана одновременно обо всем. Мир Донцовой ограничен принудительно, ограничен кромкой мелководья настоящего мира. Периметр пограничных столбов ничтожно мал, а заключенную в них площадь нетрудно охватить одним взглядом. Само то, что мы говорим о ней как о мире, следует считать великодушием. Хотя на самом деле это просто обычная сдержанность перед лицом эпохи, которая принуждает считать полнокровным миром-в-себе все, о чем можно сказать, что оно вышло в свет.
К счастью или несчастью, наша эпоха достаточно парадоксальна в этом плане, так что, даруя одной рукой легкое признание, другой она с не меньшей легкостью может уничтожать. Любая культура уничтожима невниманием. Кому нужны книги, которые никто не читает? Фильмы, которые никто не смотрит? Никому, за исключением тех, кто пишет о них диссертации по культурологии. Но текущий статус скорее благословен: мир Донцовой явлен нам здесь и сейчас, во всем своем сочном цвете.
Каков этот цвет? Это цвет разложения, упрощения, цвет плахи, на которой казнен дух. Под духом понимаются даже не те фундаментальные основы бытия, что часто воспринимаются как изящества абстракции. Это не средоточие экзистенциальных бездн и не растворенное в нас Божественное начало, которое можно признавать или не признавать таковым. Здесь за него сошла бы элементарная возможность смотреть немного отвлеченно, с сомнением, с недоверием к материальной явленности. Но этого нет.
Цвет разложения давно просочился в почву и загрязнил воду, так что все, что мире Дарьи Донцовой вырастает на земле, несет в себе недуг такого рода неполноценности. Здесь обитают разные люди, которые делают разные дела. Например, друг Ивана Подушкина, Егор Дружинин, — это бизнесмен, любящий экстрим, в то время как сам Подушкин — заядлый домосед. Донцова собирает все антиномии чистого быта, но не находит области, где их можно было бы разрешить. Поэтому они незримо присутствуют в ее книгах в качестве чего-то первичного, не подлежащего более глубокому осмыслению. К тому же невольный порыв бросить на полотно полутон проще реализовать, имея перед глазами такие крайности.
Вопрос о том, существуют ли в творчестве Донцовой полутона, довольно важен и сложен. Всегда есть определенный соблазн считать поведение героев этакой нескончаемой игрой масок, когда слова ничего не значат или значат, но что-то неочевидное. В конце концов, если мы так усердны в обвинениях, то разве для того чтобы быть честными, не должны ли мы быть для начала беспристрастными? Разумеется, должны. А потому есть соблазн видеть везде дополнительный скрытый смысл, авансом признавая мистификаторский дар автора. Разве нельзя видеть в Донцовой, постоянно тянущей нас на дно, какую-то внутреннюю позитивность, заключающуюся в том, что сама возможность ее несерьезности и дурачливости посреди жизни, в которой ничего нет, кроме примера политиков, вынужденных отвечать за каждое слово, есть какая-то особенная и специфическая ценность? В нашем случае возможность такого развития событий — это всецело заслуга иронии, богини сокрытия сущностей. И если это действительно так, то Донцову следует признать большим мастером. Тут уже речь не о полутонах на этюдах — о картинах!