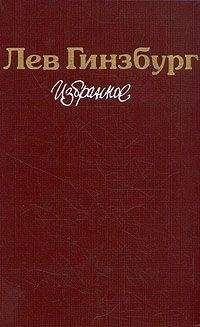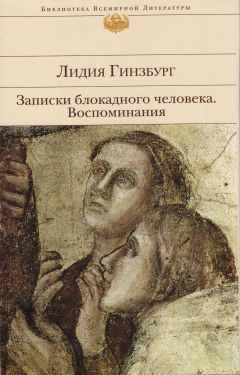Но впервые об этом узнал на себе Бедный Генрих — герой одноименной средневековой поэмы Гартмана фон Ауэ… Моя собственная жизнь оказалась связанной с ним необъяснимо страшно. Было это в 1971 году, когда я начал переводить «Бедного Генриха» — поэму о молодом, удачливом и процветающем швабском рыцаре, внезапно заболевшем проказой. Помню, как меня поразила тогда самая мысль о внезапности несчастья, которое подло врывается на самый пир жизни, в лучшие часы, посреди удачи и благополучия. Вцепившись в жертву, злой рок уже и не отпускает ее, а все ниже пригибает к земле, словно испытывая крепость нашего духа. Покориться судьбе или противиться? А если противиться, то какою ценой? Какой способ считать дозволенным?.. Рассуждать об этом вчуже и переводить прекрасную поэму было приятным занятием, но когда на строчке: «Средь жизни мы в лапах у смерти» — внезапно умер близкий мне человек, я содрогнулся… Что-то оборвалось, что-то кончилось.
Образ Бедного Генриха преследовал меня. В чем нравственная вина этого человека, который был наделен всеми мыслимыми добродетелями, красотой, талантом? Не в тол ли, что свое благополучие, успехи, наконец, возможность весело и безо всякого для себя ущерба делать добро он счел нормой, своим естественным правом?..
В мой еще недавно шумный, обжитой дом, опустошая его, одна за другой врывались утраты. Не осталось ничего, кроме страниц этой книги. Кроме дороги к Шиллеру…
Осенью 1979 года мне предоставилась возможность посетить его родину Марбах.
Мы выехали из Нюрнберга, спускаясь к Марбаху по виноградным дорогам Франконии и Швабии, через Ансбах, через Швебиш-Халль. В окружении рыжих лесов высился на горе белый замок.
Примерно в этих местах развертывалось действие «Бедного Генриха», и я представил себе, как, заболев, Генрих выполз из своего замка.
Вид его, как и у всех прокаженных, был, наверно, ужасен. Выпавшие волосы, одутловатое, бугристое лицо, квадратный подбородок. Быть может, он был в одежде, которую в средние века заставляли носить заболевших проказой: черного цвета плащ с белыми нашивками на груди, шляпа с белой тесьмой. В руках он должен был держать трещотку, с помощью которой извещать о своем приближении.
Была, возможно, такая же осень. Среди тишины пылали деревья. Перекатываясь, шуршали опавшие листья. Он шел пустынной дорогой без оруженосцев, без свиты.
Многие помнят сюжет поэмы: Бедного Генриха решилась спасти простая крестьянская девочка ценой собственной жизни, отдав ему свою кровь. Генрих устоял перед искушением. Он заслонил девочку от занесенного над ней ножа. Он успел привязаться к ней и к ее несчастным родителям, в доме которых нашел приют. В этот миг к нему пришло исцеление, господь явил чудо — «проказа с Генриха сползла».
Выше собственного страдания — долг перед другими. Обретение высшей нравственной красоты и есть очищение от проказы. Для Генриха путь к исцелению начался с той минуты, когда он, выйдя за пределы своего замка, соприкоснулся со множеством неведомых ему прежде жизней.
Но исцеления ждала и девочка. От влечения к смерти, от страха перед жизнью, который толкал ее под нож. Об этом почему-то никогда не пишут исследователи. Их умиляет самоотверженность. Но как для Генриха, так и для девочки исцеление от страха внутри себя также состояло в познании чужой беды, в стремлении и готовности взять чужую беду на себя…
Мы въезжали в Марбах. Дорога круто шла в гору. Улицы носили имена классиков: Уланда, Мерике, Гёльдерлина. Мы решили, что дом Шиллера находится наверху, на Холме Шиллера, куда сейчас, в этот воскресный вечер, вереницей тянулись машины и группами шли празднично одетые люди. Но на Холме Шиллера стоял не его дом, а современное, клубного типа строение, где сегодня должны были торжественно вручать свидетельства выпускникам ремесленных училищ Марбаха, и все эти, встречаемые нами люди были автомеханики, слесари, кузнецы, столяры — мастера…
Так начинался для меня Марбах, и я вновь вспомнил «Песню о колоколе», где каждый этап литья колокола, каждая ступень мастерства, соответствует определенному этапу человеческой жизни.
Нет, Марбах не показался мне провинциальным захолустьем. Тихий, чинный, ремесленный, он производил самое отрадное впечатление. Может быть, как раз такой город и должен был дать Шиллера с его изначально-народными представлениями о порядочности, трудолюбии, набожности, с отвращением к хаосу и беспутству.
Фахверковый дом с мезонином в старой части города лепился к другим подобным домам, но именно здесь, а не в другом каком-либо доме родился Шиллер. Именно отсюда двинулось в жизнь явление Шиллера.
Откуда он взялся? Каким был? Что вынес в мир из этих, теперь пустых комнат, которые были когда-то спальней, детской, гостиной? Что могут подсказать эти бедные, с превеликими, наверно, усилиями собранные экспонаты: косынка матери, обручальное кольцо, атласные панталоны Шиллера, жилет, трость, кожаная шапка? Его белесый локон?..
Наверно, он говорил на швабском диалекте, у него, очевидно, было отчетливое швабское произношение, как и у всех здесь, в Марбахе. Он был настоящий шваб и гордился этим, как гордился своим швабством Гартман фон Ауэ. «Щит и опора слабым — недаром был он швабом» («Бедный Генрих»), «Немало их у нас в краю, кто в мире добр и тверд в бою, кто в Швабии возрос» (Шиллер).
Он выходил из дома, поднимался чуть в гору, к церкви.
Быт впитывался в него…
Мы прошлись по главной улице, где, разумеется, был ресторан «Шиллерхоф», мимо сувенирных лавок, где, разумеется, продавали гипсовые бюсты Шиллера, Гёте, а также Баха и Элвиса Пресли, и остановились на ночлег в пансионе госпожи Эльзы Бек, на улице Мюльверг, в комнате с видом на Некар.
Незадолго до этого в доме Шиллера мы, быть может непроизвольно, совершили некую церемонию, некий обряд. После того как я в книге для посетителей расписался — «…переводчик Шиллера из Москвы», она, то ли из озорства, то ли повинуясь внезапному порыву, строкой ниже написала свое имя, приставив к нему мою фамилию.
На следующий день мы уезжали из Марбаха. В рыжей Швабии все дышало осенним изобилием. Чуть ли не каждая деревня выносила яблоки, крупные, как маленькие дыни, молодое вино, горячие пироги с луком. По обочинам дороги стояли деревья, на них, круглые, литые, будто отполированные, пылали ярко-красные яблоки. Казалось, не видел я красивей мест, чем эти. Не видел столь пышной, щедрой в своем великолепии осени. На всем лежал к тому же еще какой-то декоративный оранжевый свет вечернего солнца. Словно кто-то специально устроил это представление, этот Осенний Праздник.
Мы ехали, идиллически настроенные, по той же дороге, по которой, встречаемый ликующими поселянами, возвращался в Швабию из своих скитаний бедный счастливый Генрих.
Явился в каждый швабский дом
Желанный праздник…
Генрих был вознагражден за все им пережитые муки. Он вновь обрел здоровье, почет, богатство, но жить стал иначе — «достойней, чище, строже». Разумеется, он обручился со своей спасительницей. Счастливейший из финалов!
Священники их обвенчали.
И до старости, без печали,
В согласье свои они прожили дни,
И в небесное царство вступили они…
Как не вздохнуть:
Пусть и нам дарует господь эту участь,
Мирно жить, умирать не мучась…
То было состояние духа, которое выше самого счастья: всеобъемлющая, всесвязующая, всепримиряющая радость…
Стихотворение «К радости» Шиллер написал в Лейпциге в 1785 году: он все больше сближался с кружком Кёрнера, обретал друзей и, предавшись радушному настроению, сочинил длинные стихи, которые сам потом счел настолько неудачными, что не включил их даже в первое собрание своих стихотворений. В письме тому же Кёрнеру в 1790 году он иронизировал: «„Радость“, на мой нынешний взгляд, совсем плоха… Но так как я сделал ею уступку дурному вкусу… то она и удостоилась чести стать некоторым образом народным стихотворением…»
Между тем Бетховен в течение тридцати лет мечтал «положить на музыку песнь бессмертного Шиллера», что ему в конце концов и удалось: гимн «К радости», став финалом 9-й симфонии, сделался как бы общепризнанным гимном человечества.
Дивная искра божества, дочь Элизиума, Радость сплачивает людей в единую семью братьев, знаменует собой любовь, мир и прощение.
Семнадцать раз, начиная с Карамзина, переводили на русский язык этот гимн, однако полностью слиться с Шиллером не удалось никому.
Пытался переводить песнь «К радости» и я. Не смог.
А ее имя из книги посетителей дома Шиллера вычеркнул через полгода ее друг…
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СОВРЕМЕННОСТЬ