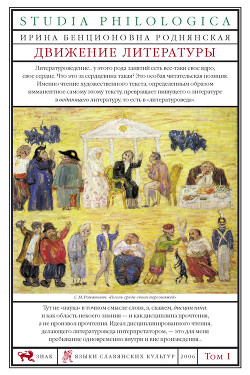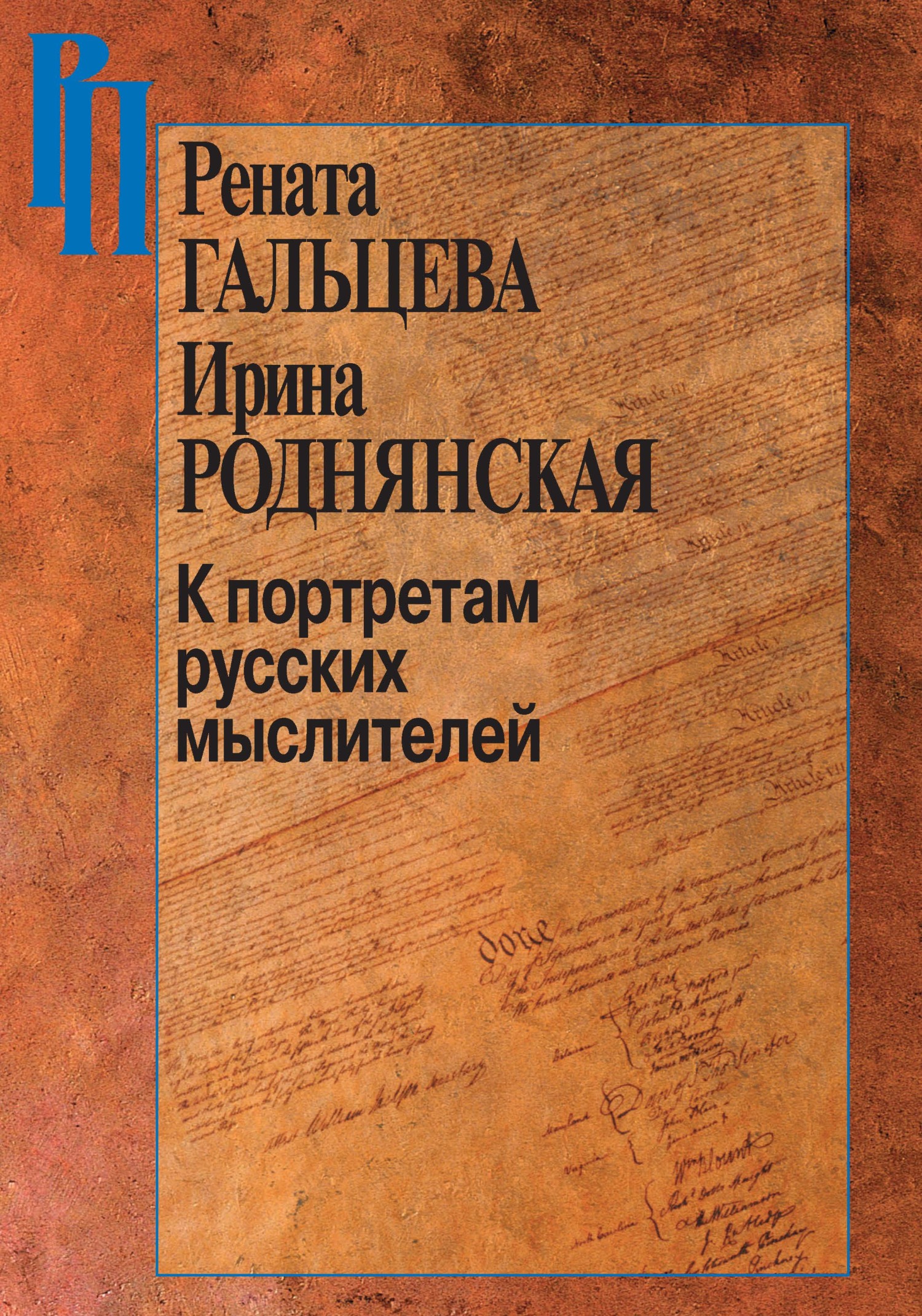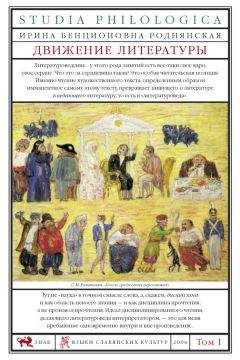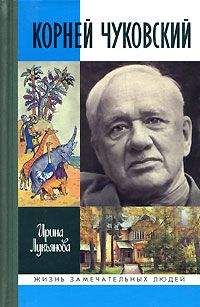На первом этапе открытие вещей в новой лирике мало чем отличается от такового в прозе: это экстенсивное освоение прежде незнакомых или непривычных именно в лирической сфере реалий. Втягиваясь в личный мир поэта, такого рода вещи, конечно, преображаются, получают подсветку и таинственную прибавку к своему прямому значению: но пока они все еще привносят в лирическое стихотворение собственную обстоятельственную микросреду, в отрыве от которой не могут быть ни названы, ни использованы. Блок не боялся новых вещей. Новая удивительная вещь могла стать у него темой стихотворения. Он один из первых – быть может, первый – написал стихотворение о самолете (даже два, но здесь имеется в виду более раннее): «О стальная бесстрастная птица, / Чем ты можешь прославить Творца?» Самолет в этом стихотворении – символ неприемлемой технической цивилизации, ее демонического падения с высоты – безусловно, не изобразительная, а лирическая единица. Но самолет может тут существовать только как часть определенной тематической картины, между ним и внутренним миром лирика сохраняется непереходимая полоса отчуждения. Перемены в лирической судьбе «самолета» можно проиллюстрировать стихотворением позднего Пастернака «Ночью». «Он потонул в тумане, / Исчез в его струе, / Став крестиком на ткани / И меткой на белье»; он же, этот малый стежок швейной иголки, приравнивается звезде, а художник уподобляется бессонному летчику, который, конечно, составляет с самолетом одно целое, его душу. Пастернаковский самолет побывал во всех пластах жизни – от домоводства до славы звездной и творчества, он непроизвольно нарастил множество значений, в том числе имеющих мало общего с прямой его летательной функцией. Можно утверждать, что он лирически обжит.
Был непривычен – не новизной, а невхожестью в прежнюю лирику – и предметный мир блоковской «Незнакомки». И. Анненский в необычайно проницательной статье «О современном лиризме» сразу отметил особое свечение этого обыденно-затертого мира: «Крендель, уже классический, котелки, уключины, диск кривится… и как все это безвкусно – как все нелепо просто до фантастичности… шлагбаумы и дамы – до дерзости некрасиво. А между тем так ведь именно и нужно, чтобы вы почувствовали приближение божества». [180] Но опять-таки все эти вещи – пусть лирически загадочная, но единая среда, сама в себе спаянная и противостоящая мечте. Обстановочное и внутреннее еще размежеваны, располагаясь по ту и по сю сторону жизни души, и нужна мотивировка опьянением, чтобы преграда пала и «перья страуса» закачались «в мозгу». Н. Гумилев, рецензируя новые поэтические книги, в 1912 году писал о пути Блока к предметности: «Во второй книге Блок как будто впервые оглянулся на окружающий его мир вещей и, оглянувшись, обрадовался несказанно…» И дальше: «… мир, облагороженный музыкой, стал по-человечески прекрасным и чистым – весь, от могилы Данте до линялой занавески над больными геранями». [181] Гумилеву в пору его первого акмеистского энтузиазма приятно было заметить эти «линялые занавески». Но он поторопился увидеть в них одну из вещей мира в том смысле, какой мог быть близок его собственным устремлениям. Занавески эти живут в своем стиле – песенном (так что они не «облагорожены» музыкой, а прямо-таки продиктованы ею) – и в своем бытовом срезе: как аксессуар «мещанского житья» для ролевой лирики Блока; они совсем не то, что у него же – портрет «в его простой оправе», подлинно лирический предмет, не нуждающийся в побочных мотивировках, чтобы стать задушевным, но зато и предмет, вполне узаконенный классической поэзией. Иначе говоря, лирика Блока еще не вступает с вещью, тем более с новой вещью, в те интимные отношения, которые станут вскоре неустранимой чертой поэзии, вплоть до сегодня. Слово «еще» ни в малой мере не указывает на какую-либо творческую ограниченность Блока. Напротив, в этом «еще не», возможно, одно из его достоинств как, во многих отношениях, последнего классического поэта.
Подлинный отец русского лирического «вещизма» – конечно, Иннокентий Анненский. Мир «не-Я», в который всегда так жадно и недоуменно вглядывается человеческое «Я», стремясь как-то его разгадать, приручить, гуманизировать, втянуть в свою душевную историю, – этот мир «не-Я» представлен у Анненского именно миром вещей. Если у Тютчева «Ночь хмурая, как зверь стоокий, / Глядит из каждого куста», то у Анненского эта ночь бытия глядит с каждой полки и этажерки, из-под шкафа и из-под дивана. Разумеется, у Анненского есть тончайшие лирические пейзажи, и городские, и на просторе, но очевидно, что нерв его поэзии проходит не здесь. Глаза «не-Я» («Но в самом “Я” от глаз “не-Я” / Ты никуда уйти не можешь») – это у него глаза ближних предметов, а не космических стихий.
В названной статье «Вещный мир» Л. Я. Гинзбург говорит о присутствии в стихах Анненского «прозаизмов» (например, «вал», «шипы» – в устройстве шарманки). Но суть, пожалуй, в том, что эти слова у Анненского стоят уже по ту сторону деления на прозаизмы и поэтизмы и благодаря своей стилистической прозрачности, немаркированности тихо впускают в стих обозначенные ими вещи, с которыми тут же сживаешься. «Винт» и «таксомотор» запоминаются при чтении Блока как слова редкие, необычные. Анненский, давая почувствовать привычность предмета, именует его походя, без всякого нажима.
Анненский первый научился насыщать заурядные «городские» предметы, так сказать, сор цивилизации, излучениями внутренней жизни – своей, человеческой вообще. Сначала это делалось им почти наивно – в виде элементарной аллегории. «Вкруг белеющей Психеи / Те же фикусы торчат, / Те же грустные лакеи, / Тот же гам и тот же чад… Муть вина, нагие кости, / Пепел стынущих сигар…» Это не колоритная обстановка дна, куда «в час назначенный» забредает поэт, чтобы встретить там Незнакомку. Это самый ход существования, аллегорически представленный поэтом в «трактире жизни», написанном вслед пушкинской, очень ценимой Анненским, «Телеге жизни». «А в сенях, поди, не жарко: / Там, поднявши воротник, / У плывущего огарка, / Счеты сводит гробовщик», – читаем в конце, и после такого финала вновь перечитываем стихотворение, чтобы полней уловить иносказательную подкладку этой мнимо-бытовой композиции. Здесь двойная жизнь навязывается вещам почти насильно, но вскоре Анненский сумеет этим вторым планом оживить и одушевить их.
У Анненского есть особый круг стихов, подобный лермонтовским так называемым «иносказательным пейзажам» (параллель, интересная еще и тем, что она дополнительно иллюстрирует скачок от натуры к фабрикату, на который отважилась, в обращении к новым предметам, поэзия). Этих пьес у Лермонтова не так много («Поток», «Парус», «Тучи», «Ночевала тучка золотая…»), но они – сгущенно лермонтовские: малые личные мифы, где лирическое чувство выражается косвенным, целомудренным образом, на древней основе психологического параллелизма. Целый ряд пьес, насыщенных подобной же красотой и печалью существования, можно назвать по аналогии «иносказательными натюрмортами» Анненского. Как и в случае с Лермонтовым, это лишь грань творчества Анненского, но такая, которая врезается в сознание как специфический «анненский элемент», подобный лермонтовскому элементу. «Старая шарманка», «Будильник», «Стальная цикада» – здесь предметы обладают внутридушевным бытием, изживают свой удел, свою судьбу, и хотя, по видимости самобытная, их жизнь вдунута в них человеческим переживанием, исходит из него и к нему же ведет обратно, но мир «не-Я» при этом все-таки получает собственную убедительную долю жизненности и сердечности. Когда в популярнейшем по справедливости стихотворении «То было на Валлен-Коски…» поэт говорит: «Бывает такое небо, / Такая игра лучей, / Что сердцу обида куклы / Обиды своей жалчей», – понятно, что жалуется-то он на свою обиду, на то, что сердце его одиноко, «как старая кукла в волнах». Но и куклу, эту деревяшку, швыряемую в водопад, тоже жаль всерьез, и, однажды наделенная отраженной жизнью, она навсегда остается для нас вправду живой и вправду несчастной. Так жалеть не человеческое умел только Лермонтов, который, по замечанию В. В. Розанова, чувствовал, как больно горе, когда в ее каменную грудь врезается лопата. В «Смычке и струнах» Анненского так же верится тому, что «сердцу скрипки было больно» и что поэту дано это ощутить.