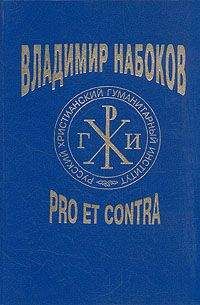Мне кажется, XX век в особенности учит этому. Горький исторический опыт (который не стоит ворошить – он всем памятен) заставил Т. С. Элиота сказать: «Счастлив тот, кто в нужную минуту повстречал подходящего друга; счастлив и тот, кому в нужную минуту повстречался подходящий враг. Я не одобряю уничтожения врагов; политика уничтожения или, как варварски выражаются, ликвидации врагов – одно из наиболее тревожащих нас порождений современной войны и мира...
Враг необходим. В известных пределах трение – не только между отдельными людьми, но и между группами – кажется мне для цивилизации необходимым»[84].
В Достоевском публицист стремится ликвидировать, убить ложную идею, ликвидировать врага; художник и мыслитель стремится только поставить все на место. Из целого мира идей нельзя выбросить «все позволено». Эта идея имеет и такую форму (у Августина): полюби Бога и делай, что хочешь. Из романа невозможно вычеркнуть и Смердякова, и смердяковщину (чего отвратительнее!). В великом целом и отвратительное может служить прекрасному.
Но совершенной свободы от беса полемики у Достоевского не было. Мудрость художника и мыслителя все время сталкивается в нем с яростью полемиста, для которого относительное зло становится злом абсолютным. А это не только интеллектуальная ошибка, но и нравственный порок. Грех здесь идет рука об руку с заблуждением, ибо остервенение в борьбе за добро (относительное добро) – главный (по-моему) источник возрождения зла.
Я сам полемист и не могу отвлечься от личного опыта, исследуя психологию полемики Достоевского. Для меня очевидно, что всякая полемика не обходится без «двойных мыслей» – как выразился Достоевский в 11-й главе II части романа «Идиот». Разумеется, «двойные мысли» возможны без полемики, но полемика без «двойных мыслей» невозможна. Вспомним еще раз место, на котором основано все наше рассуждение.
Келлер врывается к Мышкину с желанием исповедаться, но все время сбивается с исповеди на хвастовство, как он ловко плутовал и воровал. Временами выходит даже очень смешно, и оба смеются. «Не отчаивайтесь, – говорит в заключение князь, – <...> по крайней мере мне кажется, что к тому, что вы рассказали, теперь больше ведь уж ничего прибавить нельзя, ведь так?» Но оказывается, что совсем не так, что у Келлера на уме еще что-то. «Может быть, денег занять хотели?» – спрашивает Мышкин.
Келлер «пронзен» и признается: «В тот самый момент, как я засыпал, искренно полный внутренних и, так сказать, внешних слез (потому что, наконец, я рыдал, я это помню!), пришла мне одна адская мысль: «А что, не занять ли у него в конце концов, после исповеди-то денег?» <...> Не низко это по-вашему?» Мышкин отвечает, что ничуть не низко, а совершенно естественно: «Две мысли вместе сошлись, это очень часто случается. Со мной беспрерывно. Я, впрочем, думаю, что это нехорошо, и, знаете, Келлер, я в этом всего больше укоряю себя. Вы мне точно меня самого теперь рассказали. Мне даже случалось иногда думать, что и все люди так, так что я начал было себя и ободрять, потому что с этими двойным и мыслями ужасно трудно бороться; я испытал; Бог знает, как они приходят и зарождаются. Но вот вы же называете это прямо низостью! Теперь и я начну этих мыслей бояться».
Что же такое «двойная мысль»? Прежде всего, не надо смешивать ее с задней мыслью. Задние мысли бывают у любого плута, у любого лицемера. Это действительные мысли, прикрытые маской «передних» мыслей. Иногда – внешней маской (у испанских плутов; они обладают бесспорным нравственным достоинством искренности перед самими собой). Иногда – и внутренней (у Василия Курагина, у П. П. Лужина). Толстой срывает маску с Курагина, Достоевский – с Лужина. Но у Раскольникова нет маски, он обращается к городовому и просит его поберечь пьяную девушку, а потом – не стоит, мол, все равно... Городовой удивлен, он не привык к двойным мыслям. Двойные мысли требуют известной беглости мысли вообще, известной интеллигентности, это не народная, и интеллигентская (по преимуществу) болезнь. Интеллигентская и полуинтеллигентская. Келлер, конечно, не интеллигент, но он полуинтеллигент. Он статейки пишет.
Задняя мысль отсылает нас к миру плутов, Тартюфов, к миру комедии. Двойная мысль скорее трагична. Можно сказать, что Гамлета мучают двойные мысли. У Келлера, у Лебедева задние мысли могут быть одновременно двойными; но у них вообще трагическое и комическое перемешано. В анализе эти понятия легко отделить друг от друга.
Хочется подчеркнуть, что двойная мысль, в отличие от задней мысли, и у Келлера совершенно искренняя, искренняя в обеих своих половинках. Именно это трагично, потому что сознание собственной расколотости трагично. Если продумать теорию двойных мыслей, дополняя исповедь Келлера данными других романов, – идеал Мадонны и идеал содомский постоянно присутствуют в человеческой душе. Они автономны. Низшее не сводится к высшему (как в концепции страстей Фурье), и высшее не сводится к низшему (как в психоанализе Фрейда). Ведущей может быть благородная мысль; но корыстный расчет подсаживается, как лакей на запятки, и старается извлечь из сложившихся обстоятельств какую-то выгоду (Келлер, исповедовавшийся Мышкину, просит у него 25 рублей). Ведущим может быть грубый чувственный помысел; но страсть, охватившая Митеньку, будит в нем нежность, и в Мокром он уже ничего не добивается от Грушеньки, он готов бескорыстно радоваться ее счастью с «прежним, бесспорным».
Истоки концепции двойных мыслей могут быть прослежены вплоть до посланий апостолов, в противопоставлении внутреннего и внешнего, духовного и плотского человека. Вот что об этом пишет ап. Павел (в Послании к Римлянам): «Мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху... Ибо не понимаю, что делаю... Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю... Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» (Римл., 7, 14–24).
Ум здесь – синоним внутреннего человека, а плоть – синоним внешнего. У Павла в другом месте есть выражение «умный по плоти», то есть интеллект в его понимании тоже может быть «плотским» (внешним, не духовным).
В печати уже говорилось (Р. Гальцевой и И. Роднянской в разборе книги Бурсова о Достоевском – «Новый мир», 1972, № 3), что двойничество героев Достоевского по большей части означает именно спор внешнего и внутреннего человека. Иногда ситуации романа прямо можно свести к посланиям ап. Павла. Митенька раздвоен по Посланию к Римлянам: он не сомневается в законе, или, другими словами, в идеале Мадонны (т. е. в христианской, личностной форме нравственного закона; Павел еще говорит языком древнего еврея) Но следуе т Митенька, по низости своей натуры, покорясь «сему телу смерти», идеалу содомскому. Иногда ситуация вывернута наизнанку: эвклидовский разум создает содомский антизакон, а внутренний голос выступает как чувство, как «натура» (Раскольников, Иван). Это тоже по Павлу, только по другому посланию, «К Коринфянам»: «ибо мудрость мира сего есть безумие перед Господом» (1 Коринф., 3, 19). Концепция ап. Павла нашла своеобразное развитие в аскетической литературе. Большинство старцев решительно отвергало помыслы (примерно соответствующие двойным мыслям). Некоторые, напротив, разрешали опытному подвижнику «принять помысел», чтобы «побороться с ним», – примерно как парусник, лавируя под встречным ветром, движется к своей цели. Помысел, страсть выводит из неподвижности.
Помысел толкает вниз, и человек, ужаснувшись, рвется вверх. На каком-то уровне двойственность снимается, борьба приходит к концу; но пока человек еще не достиг этой высшей ступени, пока он близок к инерции, к духовной лени, – страсть может дать ему необходимый толчок. Оба толкования могут быть оправданы некоторыми евангельскими примерами.С одной стороны, Иисус, разговаривая с ближайшими, с избранными, учит их отсекать двойные мысли с порога. Апостолам Он велит отвергнуть даже мысль о дневном пропитании, не брать с собой в дорогу ни хлеба, ни серебра. Также отвергает Он просьбу матери сыновей Заведеевых о какой-то особой награде ее сыновьям в Царствии Небесном. На небе, объясняет ей Он, души стремятся быть последними, а не первыми, и служить, а не принимать поклонение.
Ученику, предлагавшему спастись, избежать креста, Иисус резко отвечает: «Отойди от Меня, сатана! О земном думаешь, не о небесном». Однако в гефсиманскую ночь мысль Самого Иисуса двоится, и того же слабого ученика. Он просит пободрствовать с Ним, помочь Ему (а тот по слабости засыпает, и другие с ним вместе). Рильке считает поведение Иисуса недостойным. Я думаю, он накладывает на Христа дохристианские представления о величии. Иисус и не стремится быть героем, подавившим до конца свое «двойное». Его молитва о чаше – одновременно сознание человеческой слабости и возвышение над ней (сознание слабости внешнего человека и силы внутреннего): «впрочем, да будет воля Твоя, а не моя». Вопреки каноническому тексту, я думаю, что мо я здесь надо писать с маленькой буквы. Это не то Я, которое возглашало с горы: «сказано в законе... а Я говорю вам...» Иисус вполне человек, у него есть свое маленькое «я». Но это маленькое человеческое «я» всегда готово уступить великому Я Христа. В этом урок, который Гефсимания дает каждому человеку.