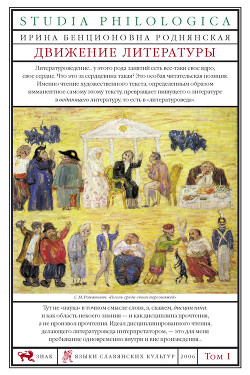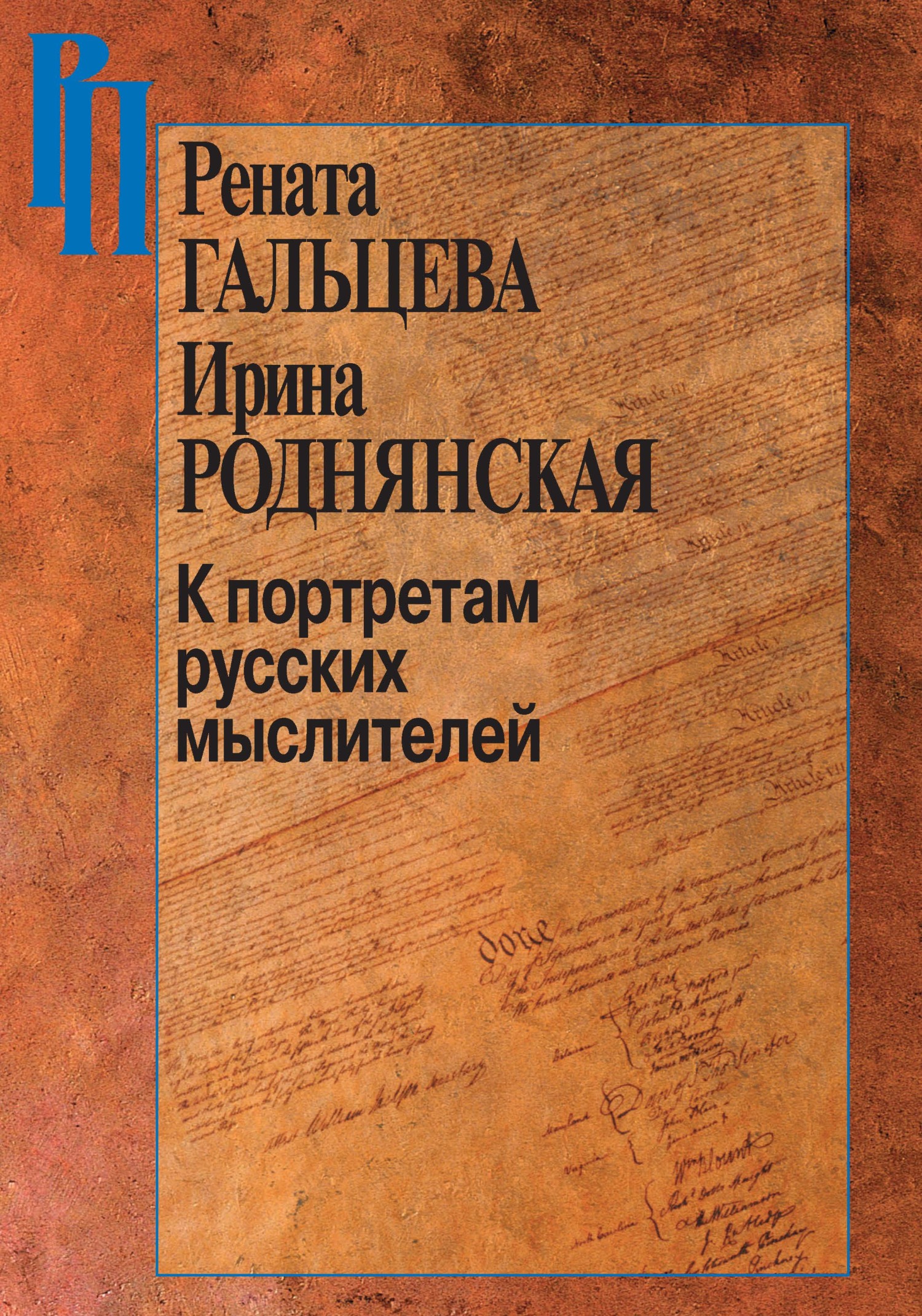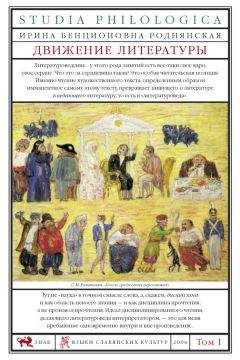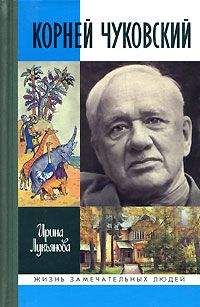Однако в 10-х – начале 20-х гг. мыслители получили, наконец, импульс не из отечественной художественной практики (и, параллельно, из усвоения-ревизии западного наследия), а непосредственно из ожесточенного богословского спора, – как это бывало разве что в Средние века. Я, понятное дело, имею в виду «афонскую смуту» – знаменитую схватку между имяславцами (они же для своих противников «имябожники») и «имяборцами», сторону которых заняла официальная Церковь, разошедшаяся в своем вердикте с большинством новой околоцерковной интеллигенции. Не вдаваясь в широко известные исторические подробности, напомню, что из защиты имяславия (веры в реальное присутствие Божества в самом Имени Иисусовом) родилась философия слова, «философия имени» в трудах хронологического первопроходца о. Павла Флоренского, а затем в штудиях с соответствующим названием о. С. Булгакова и А. Лосева.
С оговорками и нюансами (среди которых, как увидим, есть существенные для нашей темы) все три мыслителя в своей философии языка стояли на почве платоновского «Кратила», утверждая сходство между именем и тем, что этим именем обозначается, прямое соответствие значения слова и онтологической идеи вещи. «Имя вещи и есть субстанция вещи», [187] – писал Флоренский еще в 1909 г., кстати, в канун прощания с символизмом. И позднее: «Понимание слова есть деятельность внутреннего соприкосновения с идеей слова, и потому <…> разобщенность духовная от бытия ведет и непонимание слова»; [188] «Словом и чрез слово познаем мы реальность, и слово есть самая реальность <…> в высочайшей степени слово подлежит основной формуле символа: оно – больше себя самого <…> все установленное здесь относительно слова в точности подойдет под <…> онтологическую формулу символа как сущности, несущей срощенную с ее энергией энергию иной сущности…». [189] То же – и даже радикальнее – у о. Сергия Булгакова: «Всякое слово означает идею»; [190] «эйдетическая сущность слова» – «это самосвидетельство космоса в нашем духе», это «язык самих вещей, их собственная идеация», хотя она «неизбежно и закономерно изменяется в преломляемой атмосфере искажений и затемнений». Таким образом, словарь есть прежде всего набор основных словесных значений, несдвигаемо сидящих в своих эйдетических гнездах, идейно, т. е. онтологически, гарантированных «ранее того или иного употребления», «раньше всякого контекста», ранее этой самой «преломляемой атмосферы». [191]
Из восчувствованного именно в этом духе родного словаря и черпала поэзия свои словесные краски. В разных стилистиках речь могла идти об отборе и просеивании слов или, напротив, о прекращении словесной дискриминации и расширении допустимого в поэзии лексикона вплоть до общеупотребительного, наконец – о словотворчестве, о пополнении своей лексики на основе манипуляций с истинными или мнимыми корнями слов. Но всегда – сознательно или бессознательно – подразумевалось главенство основного словарного значения, восходящего к сущности именуемого. «Солнце, катящееся по небу, составляет истинную сущность слова “солнце”», [192] – с этим изречением о. Сергия непременно согласился бы Вяч. Иванов, под чьим ощутимым влиянием писалась булгаковская «Философия имени» (ср. у него: «высший завет художника – прозревать сокровенную волю сущностей»; «принцип верности вещам каковы они есть в явлении и существе своем»), [193] но мог бы, вероятно, согласиться и Пушкин. Недаром «гармония Пушкина происходит от особой “иерархии предметов”», – Тынянов в «Промежутке» упоминает об этом как об общеизвестной истине, подмеченной еще Львом Толстым. [194]
В таким образом ориентированной поэтике именование должно ощущаться весомей или первичней действия, существительное – первичней глагола («Благодаря имени существительному устанавливается изначальный реализм мышления, который вместе с тем есть и идеализм». – С. Н. Булгаков [195]), именительный падеж – выпуклей косвенных падежей. Когда Пушкину нужно утвердить ту самую «иерархию предметов», он именует их на скрепе одного-единственного глагольного сказуемого: «И внял я неба содроганье, / И горний ангелов полет, / И гад морских подводный ход, / И дольной лозы прозябанье». И даже у Блока его безлично-глагольное: «… Звенело, гасло, уходило / И отделялось от земли», – свидетельствует не о приоритете динамики над недвижностью именуемой идеи, а о таинственной значительности несказа́нного: не поименованного, но сущего.
Разбираясь в полемике новых поэтических течений с символизмом, обычно акцентируют отказ от норматива трансценденции (a realibus ad realiora), борьбу с инфляцией священных и вообще высоких слов и наконец неприятие теургических, точнее – магических, претензий вкупе с лингвистической утопией, из них вытекающей. Все это неоспоримо. Но пафос противостояния был, представляется, еще прицельнее.
Главным противником ощущался Вячеслав Иванов как вождь и теоретик младших символистов. (О несколько запоздалом продолжении его дела вышеназванными философами новые поэты, разумеется, знать не могли.) Поэтологическая проза Мандельштама, писавшаяся вслед его «Утру акмеизма», являет пунктуальное опровержение того, что было дорого мэтру, словно это полемические маргиналии по ходу въедливого чтения. Мандельштамоведение невероятно обширно, и я не могу сказать, обращал ли кто-то до меня внимание на такое вот, по пунктам, оспаривание Мандельштамом мнений Вяч. Иванова, высказанных в статье-манифесте «Наш язык», что писалась в защиту старой орфографии и была напечатана в славном сборнике «Из глубины». Сопоставим. «Таинственное крещение» русского языка «в животворящих струях языка церковно-славянского»; стремление «обмирщить» язык, оторвать его от вселенских глаголов церкви – это упадок, «практический провинциализм»; «нет, не может быть обмирщен в глубине своей русский язык!» (Иванов). [196] – «Борьба русской, т. е. мирской, бесписьменной речи, языка мирян <…> с письменной речью монахов», «враждебной византийской грамотой» (Мандельштам). [197] Неприятие языка в качестве «орудия <…> словесности обыденной», насыщаемой «богомерзкими» словообразованиями, «стоящими на границе членораздельной речи, понятными только как перекличка сообщников, как разинское “сарынь на кичку”» (Иванов). [198] – «Воистину русские символисты были столпниками стиля: на всех вместе не больше пятисот слов – словарь полинезийца» [199] (Мандельштам, впоследствии не смутившийся ввести в стихи и впрямь богомерзкое и нечленораздельное слово «Москвошвей»). «Чувствование языка в категории орудийности» как основа прагматической реформы правописания, губящей родной язык, его корневую, образную основу, его внутреннюю форму (Иванов). [200] – «Орудийность» как условие живой, живущей силою порыва поэтической речи (термин, с очевидностью заимствованный Мандельштамом из этой статьи Иванова и спустя десятилетия переосмысленный в «Разговоре о Данте» [201] с противоположным оценочным знаком). Обличение тех, кто считает разрыв первым условием творчества (Иванов). – Разрыв – это богатство, – ответная уверенность Мандельштама: разрыв провоцирует творчество и им же залечивается.