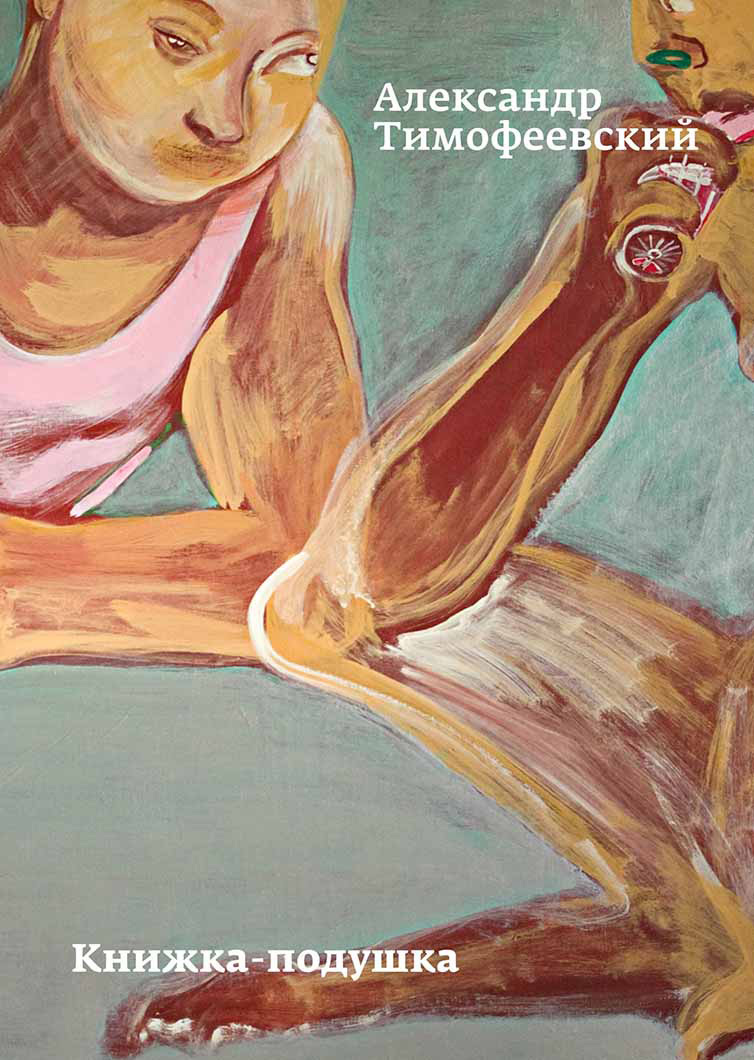с телефонами и рейверов, тщательно, перед зеркалом, выпачкавшихся ради знатного концерта, объединили всю московскую публику, претендующую быть или слыть модной. Но раскололи профессионалов. Пожалуй, впервые в здание на Большой Никитской, к которому было ни пройти ни проехать от запрудивших улицу машин, пришли люди, отроду там не бывавшие, и галерка, забитая демократическими безбилетниками, раскачивалась в такт музыке, как на рок — концерте. И вслед за ними качала головой музыкальная общественность, неприятно озадаченная этим казусом.
В изобразительных искусствах критерии мастерства смутны. Настоящего союза художников нет на Гоголевском бульваре, но нет его и выше. Концептуализм монопольно объявил себя всем вообще «актуальным искусством», и на здоровье; живописцам, по старинке пачкающим холст маслом, это безразлично, потому что неизвестно. Это не век нынешний и век минувший, как утверждают адепты «актуального искусства» (к их ужасу, на последней Венецианской биеннале Америка, a priori самая продвинутая, вдруг выступила жалкой оппортунисткой, представив себя не объектами, не акциями, не инсталляциями, а, страшно выговорить, живописью — мусорной, как водится), не два сталкивающихся, жарко полемизирующих направления, а эвклидовы параллели, беззаконные друг для друга и не озабоченные пересечением. Геометрии Лобачевского не предвидится: общей среды нет, нет и единства в критериях, нет даже мало — мальски согласованных профессиональных понятий. Ничего нет. В музыке и кино, кажется, наоборот. Тем заметнее выпадения и срывы. Майкл Найман и есть такое выпадение — срыв, но куда — то наверх, на необъяснимую высоту.
Английский композитор мировому музыкальному сообществу навязан кинематографом. В сущности, одним Питером Гринуэем, к фильмам которого он до недавнего времени писал все саундтреки. Слава его несомненно больше профессиональной оснащенности: на слух завсегдатаев консерватории оркестр Наймана играет почти болезненно, а сам он — болезненно без «почти». О сольной партии на фортепиано, во время которой композитор исполняет свою, к слову сказать, вполне стертую музыку к столь же стертому фильму Джейн Кемпион, и говорить неловко. Но публике это безразлично, как живописцам презрение концептуалистов; зал, до отказа набитый «смежниками» — художниками, архитекторами, дизайнерами, кинематографистами, — слышит что — то свое и ликует навстречу услышанному.
Пропасть между профессиональным и наивным искусством — вещь обычная. Но искусство Наймана наивным не назовешь. Музыковед, автор трактата о Кейдже, он изощрен, хотя и однообразен. Это ученая музыка, но без профессорской вялости, словно накачанная стадионом, все захлестнувшей эмоцией, которая не может ни пройти, ни разрешиться: скрипка истерично елозит по одному и тому же месту, упоенная собственной инерцией, — так истошно кричит болельщик или кот перед случкой, но ни гол, ни самка не могут прервать монотонной высоты раз взятой ноты. Она вырвалась на свободу и парит в поднебесье, нескончаемая и мучительная, вздувшийся живот напрягся, сейчас лопнет, и облегчающее пердение духовых становится живительной развязкой. Ученость в том, что почти всякий раз берется какая — то известная тема, Моцарта или Рамо, или Куперена, распавшаяся, разъятая и собираемая по кусочкам, и вновь исчезающая: животный вопль был звуком неопознанной феерии. Она развеялась, оставив по себе ноту — одну, и этого много. Минимализм как следствие былой избыточности; призрак целого, неотступно встающий над руинами. Само собой всплывает слово «барокко».
Все это у Наймана равно доступно и ярко, сложнейшая коллизия подана примитивнейшим способом, любое сердце заходится от сладкого восторга — понятного, непонятного, не суть важно. Где дворец, а где пепелище, какая разница. Феерия должна впечатлять. Найман и впечатляет. Разумеется, Гринуэю, всю жизнь занятому барокко, приглянулось это: композитор вроде бы из его маленького миленького садика, но хорошо справляется с пиаровскими функциями, налаживая контакты с широкой демократической общественностью из заполонивших все вокруг лесопарковых кущ. Найман стал переводчиком гринуэевской исключительности, поработав на этом поприще корысти ради: он двинул оторванного от жизни режиссера в широкие элитарные массы и заодно сам приобрел груз его изрядного интеллектуализма. В глазах «смежников» между Питером Гринуэем и Майклом Найманом возник знак равенства, и музыканты — профессионалы вынуждены с этим считаться, до конца не понимая, с чем именно, и кто, и, главное, почему обвел их вокруг пальца: остроумный, конечно, но двадцать пятый по счету минималист стал продаваться наравне с Филипом Гласом и вообще занял неподобающее ему место в академической табели о рангах.
Интересно, что ровно то же думают кинематографисты о самом Гринуэе. Им он кажется импортированным из художественной среды. Но художники видят в Гринуэе гениального дизайнера, который зачем — то прикидывается ученым ритором. И все дружно бранят манерного англичанина за равнодушие к жизни и уход в культуру, столь на самом деле радикальный, что его фильмы напоминают трактаты на мертвом языке. И к подиуму, и к кинематографической профессии это в самом деле имеет весьма опосредованное отношение, зато к искусству — прямое. Разрыв между профессиональным и полуэлитарным у Наймана или профессиональным и сверхэлитарным у Гринуэя сближает музыку и кино с изобразительным искусством — там это давно в порядке вещей. Дух дышит, если удается — ив архаике, и в новаторстве, и в станковизме, и в концепте, и в профессии и поверх нее, но скорее всего где — то между, а где именно — Бог весть.
Июнь 1998
Федор Толстой. Автопортет
Евгений. Утешение Петербургом
Ноябрь 1998
«Плачет девочка в банкомате», — острили осенью 1998 года, когда разразился кризис, и снять наличные стало почти невозможно. Радушные московские стены, безотказно плевавшиеся раньше купюрами, вдруг заглохли и снова стали просто стенами. Это было наглядно. Отказали не только русские банки. Отказал прогресс, подвела цивилизация, Запад обернулся своею азиатской рожей. Впору было сойти с ума, но Евгений, упертый в землю четырьмя ногами, решил для начала вынуть деньги.
* * *
Еще в девяносто втором году, когда начались гайдаровские реформы, он ушел из Петербурга в Москву — в жизнь, в люди, в буржуазную прессу, стал писать для одной газеты, потом для другой; разные издания принадлежали разным владельцам, и к злополучному августу у него скопилось по две пары пластиковых кусочков. Первая пара, выданная могучим сельскохозяйственным банком, из числа «системообразующих», оказалась уж совсем бессмысленной, декоративной; вторую — еще можно было отоварить. И даже окэшить. Но на нее перестала падать зарплата. Та пара, что не работала, была с деньгами, та, что работала, — без. Он долго думал, как быть, и, наконец, додумался до простейшего: перевести свои деньги с одних карточек на другие. Для этого он пересек поле и двинулся в банк, тот самый могучий, сельскохозяйственный. Банк