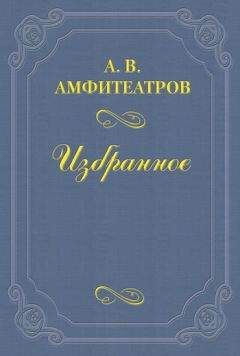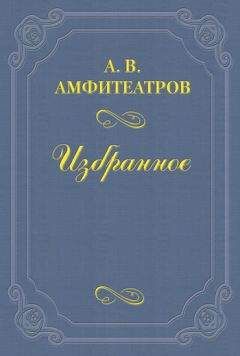Упомянутое сейчасъ имя Владимира Кіевскаго невольно приводитъ насъ къ мыслямъ о многоженствѣ, которымъ такъ прославился этотъ князь — до принятія христіанетва. Лѣтописная, мало правдоподобная, легенда приписываетъ ему шесть женъ и восемьсоть наложницъ. Дѣло, конечно, не въ томъ, какъ удивляется кто-то въ сатирѣ Щедрина, «на кой чортъ понадобилась ему такая уйма бабъ?» a въ томъ, что эту уйму совершенно немыслимо было прокормить съ той лапотной маленькой Руси, населенной по одной душѣ на пять квадратныхъ верстъ, которою правилъ Владимиръ. Вопросъ о многоженствѣ y славянъ очень спорный. Трудно отрицать, что оно было въ обычаѣ, когда христіанство проникло въ славянскія дебри, но, повидимому, оно никогда не господствовало въ народѣ — оставалось лишь терпимою роскошью привилегированныхъ классовъ, перенятою отъ тюркскихъ кочевниковъ и, значитъ, пришедшею на Русь поздно. Владимиръ — единственный русскій князь, котораго легенды окружаютъ какимъ-то волшебнымъ восточнымъ гаремомъ. О предкахъ его легенда не передаетъ ничего подобнаго. Свидѣтельства арабскаго путешественника, знаменитаго Ибнъ-Фоцлана о славянскомъ многоженствѣ, очень выразительны, но больше указываютъ на широкое развитіе наложничества, чѣмъ на многократный и одновременный бракъ, что, въ средніе вѣка, повсемѣстно весьма различалось, a въ славянствѣ — классифицировалось съ особенною подробностью категорій. Мы не можемъ сейчасъ остановиться подробно на вопросѣ о славянскомъ многоженствѣ, такъ какъ я буду вынужденъ еще вернуться къ нему въ слѣдующемъ чтеніи, говоря о тѣхъ византійскихъ и монгольскихъ вліяніяхъ, гсоторыми создалась московская, до Петра Велакаго, семья. Сейчасъ же достаточно будетъ кратко повторить старый выводъ извѣстнаго слависта Макушева: «У славянъ преобладала моногамія, хотя было дозволено и многоженство; въ послѣднемъ случаѣ, однако, число женъ было ограничено». Необходимо прибавить, что, наряду съ терпимымъ многоженствомъ, новѣйшею полигаміей, не вымерли еще преданія стариннаго многомужія, родовой поліандріи. Объ этомъ — наилучшій показатель упомянутый уже Ибнъ-Фоцланъ, описавшій похороны русса, умершаго холостымъ, и его загробное вѣнчаніе съ дѣвушкою, обреченною ему въ жены. Не входя въ подробности этого наивнаго обряда, нѣсколько щекотливыя для современнаго уха, отмѣчу лишь, что супружескія права мертвеца на загробную супругу были реализированы представительствомъ шести его родичей: «самъ седьмъ».
Выше я говорилъ о непрочности и кратковременности легко расторжимыхъ былинныхъ браковъ. Но, при этомъ, не слѣдуетъ упускать изъ виду, что былина, пѣсня, сказка — это, все-таки, своего рода, беллетристика, занимающая слушателя интереснымъ случаемъ общественной жизни. Поэтому — въ тѣхъ же самыхъ былинахъ мы встрѣчаемся, какъ съ крайностями женскаго легкомыслія въ брачныхъ перемѣнахъ, такъ и, наоборотъ, съ крайностями вѣрности, — включительно, напримѣръ, до требованія, чтобы овдовѣвшій мужъ погребалъ себя вмѣстѣ съ покойной женою (Потокъ-богатырь), до самоубійствъ жены надъ прахомъ мужа (Василиса Микулишна) и мужа надъ трупомъ жены (Дунай-богатырь). Конечно, въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ этихъ трагедіяхъ чувствуются отголоски ритуальныхъ самоубійствъ арійской, подъ-Гималайской древности. Но гораздо чаще звучитъ чисто-психологическій, настояще любовный, можно бы сказать даже: идеалистическій мотивъ — одной души въ двухъ тѣлахъ. Какъ всякій бракъ, возникающій по свободному выбору, поддерживаемый равенствомъ супруговъ и имѣющій возможность быть расторгнутымъ по обоюдному ихъ согласію, славянскій первобытный бракъ былъ напитанъ дружествомъ, незнакомымъ для послѣдующихъ поколѣній церковно-государственныхъ. Они обратили бракъ въ орудіе и форму женскаго порабощенія и обратили мужа и жену въ двухъ принципіальныхъ враговъ, между которыми согласіе — не болѣе, какъ счастливо длящееся перемиріе. Я уже имѣлъ случай отмѣтить отвращеніе славянства къ повторности брака, — подразумѣваю: безъ согласія на то мужа и жены. Вживѣ, супруги легко сходились и расходились, но, если одинъ изъ нихъ умиралъ въ бракѣ, то смерть не разрывала брака. Мы видѣли, какимъ уваженіемъ пользовалось въ славянствѣ вдовство. Наоборотъ, вдовецъ или вдова, вступающіе въ новые браки, подвергались не только умаленію личнаго достоинства, но и ограниченіямъ личныхъ и имущественныхъ вліяній своихъ по первому браку.
Итакъ, изъ картины, бѣгло набросанной мною передъ вами, вы легко усмотрите, что первобытное состояніе славянской женщины отличалось такимъ количествомъ свободъ и преимуществъ, что съ трудомъ вѣрится процессу послѣдующей соціальной эволюціи, которая отвела женщину отъ лѣсной воли и степного равенства въ вырубленный изъ этого лѣса и поставленный среди этой степи теремъ. Въ слѣдующихъ чтеніяхъ я буду имѣть честь разсказать вамъ постепенныя ступени этой эволюціи, руководимой заимствованными со стороны, изъ-за моря и изъ-за горъ, началами церковности и государственности. Мы послѣдовательно разсмотримъ исторію паденія тѣхъ правовыхъ институтовъ, которые грубо и инстинктивно опредѣляли собою свободу первобытной женщины, но, въ формахъ тонко выработанныхъ и логически развитыхъ принциповъ, должны опредѣлить и свободу женщины будущей — свободу близкую, наступающую, уже озаренную привѣтнымъ, краснымъ свѣтомъ соціалистическаго утра. Мы разсмотримъ, какъ искоренился на Руси свободный бракъ и выросла половая опека съ нерасторжимымъ церковнымъ бракомъ, какъ ограничивалжсь имущественныя права женщины и ея почетное значеніе въ родѣ, какъ закрылись для нея судъ и привилегіи культа, какъ въ рукахъ ея оказались ключи безсильные предъ мужнинымъ мечомъ и плеткою, — словомъ, разсмотримъ семисотлѣтнее торжество агнатическаго рода надъ когнатическимъ и переработку перваго въ мужевластное государство.
Устои мужевластнаго государства, почитавшіеся незыблемыми сотни лѣтъ, заколебались лишь въ XIX вѣкѣ, когда машинныя производства и ростъ рабочаго класса быстро вызвали банкротство старой европейской семьи, покоившей на трудѣ и заработкѣ мужа хозяйственное и постельное содержанство жены, искусственно выработанное половою опекою. Въ теченіе XIX вѣка, наростала для русской женщины та потребность и необходимость возвратить себѣ роль и значеніе «супротивницы» мужа-добычника, которою, — какъ мы сейчасъ видѣли, — характеризовался первобытный славянскій бракъ. Женскій вопросъ назрѣлъ къ разрѣшенію въ государствѣ, назрѣвшемъ къ разрушенію, въ государствѣ, которое было построено на семейномъ обездоленіи женской половины человѣчества и объявило торжественно, что баба — не человѣкъ. Мы видимъ, однако, что женскій вопросъ, при всей своей многострадальности, оказался прочнѣе и живучѣе государства и смотритъ въ его умирающіе глаза съ такою же побѣдною и властною силою, какъ смотрѣлъ въ глаза его дѣтства. Эгоистическія лжи искусственнаго мужевластнаго права отпадаютъ, просыпается природная мораль и правда — правда основного равенства половъ. Имъ предстоитъ воскресить — въ формахъ правовой сознательности, въ детальномъ, логическомъ и крѣпко защищенномъ соціальномъ распредѣленіи, — ту свободу, которую смутнымъ хаосомъ, наивно и по-дѣтски намѣчалъ для жевщины первобытный естественный коммунизмъ. Свободу брака, свободу воли, свободу труда, свободу имущественнаго распоряженія, свободу общественной дѣятельности, свободу политическаго представительства.
1906 г. 17/12. Парижъ.
Талантливый, хотя порою черезчуръ парадоксальный, литературный отшельникъ Реми де-Гурмонъ, равно извѣстный теперь какъ поэтъ, романистъ, философъ, a всего удачнѣе и глубже — какъ критикъ, посвятилъ одну изъ удачнѣйшихъ статей своего превосходнаго сборвика «Le Chemin de Velours» изслѣдованію типа современной французской «барышни», то есть молодой дѣвушки въ образованныхъ и зажиточныхъ классахъ общества, созданныхъ и охраняемыхъ буржуазною культурою минувшаго вѣка. Фактическимъ источникомъ и фундаментомъ этому блестящему этюду, не лишенному недостатковъ слишкомъ широкаго сатирическаго обобщенія, но въ цѣломъ полному правды и тонкаго, инстинктивнаго чутья, послужилъ солидный томъ Оливье де-Тревиля: «Наши дѣвушки въ собственныхъ признаніяхъ» (Les Jeunes Filles peintes par elles-mкmes). Пользуясь матеріаломъ двухъ тысячъ шести опросовъ Тревиля, котораго онъ остроумно называетъ «Донъ-Жуаномъ анкеты», Реми де-Гурмонъ написалъ весьма неутѣшительную картину французскаго «женскаго нестроенія» въ томъ раннемъ и подготовительномъ, коренномъ фазисѣ его, что обусловленъ вліяніями шкоды, домашняго воспитанія и литературы.
По вѣрному историческому наблюденію Реми де-Гурмона, франдузская «барышня» («la jeune fille» — въ кавычкахъ) — типъ сравнительно недавній: ему едва минуло сто лѣтъ. До великой революціи «барышенъ» не было. Были дѣвчонки, отроковицы (fillettes), жившія на дѣтскомъ положеніи до наступленія половой зрѣлости. И были молодыя дамы, вышедшія замужъ четырнадцати, пятнадцати лѣтъ. Того промежуточнаго, внѣзамужняго состоянія, которое выражаетъ собою слово «барышня» и которое часто тянется десять и болѣе лѣтъ, — состоянія, такъ сказать, «длящейся невѣсты», — XVIII вѣкъ не зналъ. Конечно, и тогда не всѣ дѣвственницы рано находили жениховъ, и многія подолгу ожидали замужества. Но, по литературѣ и историческимъ памятникамъ стараго режима, очень замѣтно, что между такою, «засидѣвшеюся въ дѣвкахъ», особою лѣтъ 18–30 и молодою замужнею дамою въ дореволюціонномъ обществѣ не было той глубокой разницы быта и нравовъ, какую выростилъ XIX вѣкъ. Лишенная по какой-либо причинѣ брачныхъ узъ, взрослая дѣвушка пользовалась довольно широкою свободою внѣ ихъ, и «дѣвичьи грѣшки», въ эпоху регентства и Людовика XV, не возбуждали ни общественнаго изумленія, ни, тѣмъ болѣе, негодованія. Донъ-Жуанъ XVIII вѣка — побѣдитель, по преимуществу, дѣвичьихъ сердецъ, соблазнитель и погубитель дѣвушекъ брачнаго возраста. Реми де-Гурмонъ справедливо замѣчаетъ, что въ нашъ вѣкъ пресловутый Казанова покорялъ бы только замужнихъ дамъ; ищущихъ приключеній адюльтера, развеселыхъ вдовицъ, да продажныхъ женщинъ: современная французская барышня ограждена отъ подобныхъ господъ надежной стѣною личной и общественной морали. Сто лѣтъ назадъ было иначе. Въ дополненіе къ хвастливымъ анекдотамъ Казановы, Restif de la Bretonne оставилъ намъ характеристику той же легкой доступности для дѣвушекъ среднихъ классовъ общества, Laclos — для барышенъ придворной аристократіи. Паденіе дѣвушки разсматривалось XVIII вѣкомъ, какъ неизбѣжная уступка непобѣдимой природѣ. Уклониться отъ рокового закона почитали возможнымъ лишь компромиссомъ ранняго брака, то есть — не давая женщинѣ времени быть «барышнею», переводя ее прямо отъ куколъ въ объятія законнаго супруга.