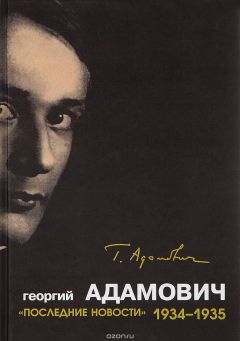Это случайный пример, случайно подвернувшийся под руку, — однако впечатление постоянно остается тем же. Если постараться его коротко определить, придется сказать, что из мира сложного и внутренне развитого, со множеством тонов и «обертонов», с целой сетью мельчайших схематических линий, с богатейшей системой отзвуков и откликов, мы как будто попадаем в другой мир, где существует только пять или шесть обязательных, общих, цельных чувств, во всей их первобытной непосредственности, — да и то чувств, пропущенных сквозь наивнейшую политико-психологическую цензуру. Неудивительно, что на таком основании голословно утверждаемый «расцвет» оказывается в действительности мнимым и призрачным.
Но… не будем, однако, слишком увлекаться всякими душевно-сердечными тонкостями, европейскими или эмигрантскими, все равно. Тут я перехожу как бы «к возражению самому себе», не раз уже осмеянному, — а на самом деле, к той попытке взглянуть на предмет с другой стороны, без которой почти ничего понять нельзя. Конечно, если заниматься пропагандой или проповедничеством, необходимо, «во избежание недоразумений», неизменно оставаться на одной точке зрения: это черное, а это вот белое. Но ума так не обогатишь и к истине не приблизишься, — особенно в таком природно-противоречивом и таинственном деле, как литература. Думая, размышляя, человек всегда беседует сам с собой, естественно совмещая в одном лице адвоката и прокурора, и от доводов «за» переходя к доводам «против». Почему-то вслух это, по мнению некоторых, делать не полагается, а надо изрекать лишь готовые, кристаллизовавшиеся суждения — заповеди, — будто, как Господу Богу, все человеку в жизни ясно, все открыто, и остается лишь навести в идеях порядок, без труда разделив их на полезные и вредные, добрые и злые.
Собственно говоря, не о советской литературе речь, — а скорее о «нашей», в широком смысле слова, о той, которая нам дорога, и в которой мы видим как бы укор и упрек большевизму. Доказывать, что советская литература на правильном пути, я не собираюсь. Но мне кажется, она могла оказаться на правильном пути: в отказе от бесконечных усложнений и утончений есть и значение, и правота. Это значение, эту правоту с исключительной остротой предчувствовал Лев Толстой за несколько десятков лет до того, как все эти вопросы стали «актуальны».
История европейской литературы последнего века, начиная, приблизительно, с первых романтических мечтаний, есть, по внутреннему своему смыслу, — история индивидуализма. Точнее можно было бы сказать — «история крушения индивидуализма». От байроно-шиллеровских надежд и порывов до наших дней — уцелело немногое. Человек, без колебаний поверивший в себя, тягостно-медленно расплачивается за свою безотчетную заносчивость, за первые свои одинокие, уединенные восторги. Были мученики и герои индивидуализма, как бы «за всех нас пострадавшие»: Бодлер, Ницше, другие… Теперь героический период кончился, обольщения исчезли, иллюзии рассеялись, — и человек тревожно спрашивает себя: как жить дальше? Нет ничего удивительного, что в эти годы допевания последних индивидуалистических песен, договаривания последних индивидуалистических слов, литература обогащается неведомой до сих пор душевной тонкостью. Но как «гений никогда не бывает тонок», так, думается, и творчество духовно-мощное и что-то обещающее, не ищет этой игры в полу-слова, полу-мысли, полу-догадки. Теперь, в трещинах европейского сознания, в провалах совести и особенно веры, во тьме, без солнца, должны были вырасти эти небывалые, причудливые «ночные цветы», по-своему подлинно прекрасные. Но когда они отцветут, что останется после них? Их происхождение понятно, — но чем оно понятнее, тем и печальнее. Человек оказался как бы один на один с жизнью, со всеми ее вопросами, — и он один, на протяжении одного своего личного существования, хочет ей что-то ответить, как-то себя в ней утвердить. Если это человек творческий, то в творчество его неизбежно входят все понятия, которые ум наш могут смутить и встревожить, — и пусть даже он их не называет, они незаметно для него самого обогащают, усложняют, утончают это творчество, звенят в нем бесчисленными, эстетически-неотразимыми струнами. Но порочность такого творчества несомненна. Как ни пленительны эти своевольные прогулки по мирозданию, эти уединенные встречи с великими представлениями о Боге, о судьбе, о смерти, как ни высоко порою в них трагическое чувство ответственности (которое именно и прекрасно в «героических» случаях индивидуализма), все же что-то в них не благополучно! Привкус обреченности сопутствует им всегда, — и разгадка его, вероятно, в том, что блуждать по бытию в полном одиночестве, разорвав все истинные связи с остальными людьми, человеку не свойственно и гибельно. Личных ответов нет, — ибо мир не рассчитан на личные вопросы. Может быть, яснее всего это становится при столкновении со смертью (в частности, яснее всего это на примере Толстого, который тут, вопреки себе, перекликается со всеми Бодлерами, так страстно им ненавидимыми и в припадке какой-то чудовищной слепоты осмеянными!). Смерть ужасает человека в его теперешнем «среднем» состоянии. Смерть его возмущает, потрясает, как может потрясти только несправедливость или ненормальность… Между тем, о смерти мы вправе думать что угодно, кроме только того, что она ненормальна. Ее законность даже не требует оправдания, и вся природа дает нам тут вечный урок. Значит, ненормально что-то в нас, если мы никак не можем с ней примириться, несмотря ни на какие потусторонние обещания, которыми порой себя утешаем, — и, действительно, едва только начав возвращаться от «человека» к «человечеству», как единственному настоящему целому, едва почувствовав мгновенным, коротким проблеском, что «тема смерти» не может быть разрешена личным сознанием без страдания и бессильно-отчаянного протеста, мы становимся сговорчивее и понятливее к «мировой чепухе», как выразился Блок, к «тысяче съеденных котлет», как сказал перед виселицей убийца Столыпина Богров. Теперешняя западная литература смертью глубоко озабочена и, конечно, в этом она обнаружила свою духовную серьезность, свою напряженность и последовательность. Делать из этого явления непосредственный, прямой вывод насчет «гниения» и «разложения», на том основании, что, мол, «только о гробах им и остается писать», — по меньшей мере плоско, невежественно и глупо. Но все же верно, что смерть должна бы занимать художника, да и каждого человека, гораздо меньше, чем жизнь.
В советской литературе, по основному ее ощущению, и, так сказать, в очищенном, проветренном ее состоянии, могла бы быть простота, смешанная с величием, — если бы только скачок, разрыв не был бы проделан с какой-то хирургической решительностью, без всякого ощущения той культурной преемственности, о которой в Москве так любят говорить. Слово «массы» произнесено было не напрасно. Да, человек полностью живет только в «массе», и всякий духовный опыт, — вероятно, даже религиозный, и уж, наверное, «светский», — неотвратимо к этому сознанию приводит! В одиночестве лишь снятся волшебные сны, с мучительным и страшным пробуждением. Плохо же в советской литературе, главным образом, то, что это возникновение «масс» предполагается, как механический процесс, или же дано сразу в готовом виде, без любви, без подлинно-прочной взаимной связи. Советские писатели как будто забыли, что если человек и должен быть принят в природных своих вечных границах, то все же что-то его над остальной природой возвышает, и это «что-то» — едва ли только классовый, еще полузвериный инстинкт.
Но это, как говорится, — «совсем другая история».
«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ». № 58. Часть литературная
Только что вышедшая книга «Современных записок» открывается первыми главами нового романа Сирина — «Приглашение на казнь».
Есть общий принцип, которому критик должен был бы следовать без всяких отступлений: не высказываться о вещи, не прочтя ее полностью. По отношению к Сирину правило это тем более обязательно, что нет (и, кажется, никогда в русской литературе не было) писателя, для которого вопросы композиции, построения, фабулы, действия, развития, вся вообще область «архитектоники», имели бы большее значение. Собственно говоря, в сцеплении фактов и положений, в причудливой и, вместе с тем, безошибочно-логической их игре, и сказывается очевиднее всего необыкновенный дар Сирина. «Отчаяние» останется, в этом смысле, произведением, которому трудно найти что-либо равное, а «Приглашение на казнь», по-видимому, родственно этому роману; и, вот, извольте судить о нем по первым главам! Главное еще неизвестно, ибо главное может у Сирина открыться только в целом, при возможности отойти в сторону и окинуть взглядом все повествование.
Это черта мало свойственная русской литературе, за исключением, пожалуй, Достоевского. Но у Достоевского композиционное напряжение, с его медленным нарастанием, с длительным, издалека идущим «крещендо», — совсем другого рода, и блестяще-холодному, трезво-вдохновенному выдумщику Сирину он слишком чужд, чтобы возможны были тут какие-либо сравнения. Признаюсь, «в порядке самокритики», что глубокая не-русскость Сирина меня смутила на первых порах, смущает, в сущности, и до сих пор, и, вероятно, именно она помешала мне полностью оценить его талант сразу, о чем я говорю теперь с сожалением, но без всякого желания упорствовать дальше в этом скептицизме, да и без ложного стыда. Не ошибаться в критических оценках невозможно, и единственная ошибка действительно непростительная, это нелепо-самолюбивое стремление, какой то бы ни было ценой, доказать, что все-таки ты, именно ты, был прав, и что-то особенное, скрытое от других, предвидел, и что-то необыкновенно-тонкое понял… «Отчаяние» — нельзя было читать без восхищения. Правда, в восхищении этом было гораздо больше удивления, нежели наслаждения, — оттенок для Сирина крайне важный. Но в романе, — лучшем, конечно, из всего, что Сирин написал, не исключая и «Защиты Лужина», — с каждой новой его главой становилось все яснее, что дар Сирина завязывать и развязывать какие-то необычайные тематические узлы в высшей степени органичен, что на границе бреда держаться ему по самой его природе свойственно, что за внешней назойливой «авантюрностью» его замыслов таится странное лунатическое живоощущение, которое ничего общего не имеет с надуманной беллетристической позой, с литературным жеманством. Помнится, о Гамсуне кто-то, — чуть ли не Бальмонт, — сказал лет тридцать пять тому назад, после «Пана»: «Он пишет так, как цветок растет». Приблизительно то же впечатление оставляет и Сирин, — только, конечно, «цветок» это такой, которым можно любоваться, но который трудно полюбить.