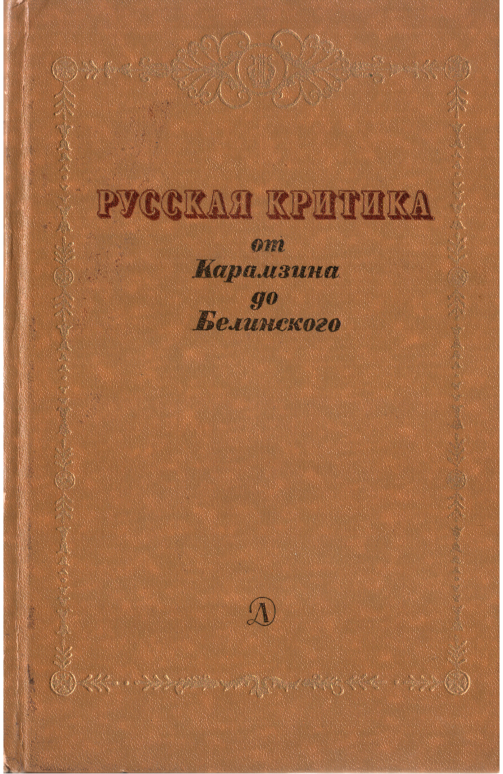наши пословицы значительнее пословиц всех других народов. Сверх полноты мыслей, уже в самом образе выражений в них отразилось много народных свойств наших; в них всё есть: издевка, насмешка, попрек, словом — всё шевелящее и задирающее за живое: как стоглазый Аргус*, глядит из них каждая на человека. Все великие люди, от Пушкина до Суворова и Петра, благоговели перед нашими пословицами...
Отсюда-то ведет свое происхождение Крылов. Его басни отнюдь не для детей. Тот ошибется грубо, кто назовет его баснописцем в таком смысле, в каком были баснописцы Лафонтен*, Дмитриев*, Хемницер* и, наконец, Измайлов*. Его притчи — достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски: в их проделках между собою слышны проделки в обряды производств внутри России. Кроме верного звериного сходства, которое у него до того сильно, что не только лисица, медведь, волк, но даже сам горшок поворачивается как живой, они показали в себе еще и русскую природу. Даже осел, который у него до того определился в характере своем, что стоит ему высунуть только уши из какой-нибудь басни, как уже читатель вскрикивает вперед: «это осел Крылова!» Даже осел, несмотря на свою принадлежность климату других земель, явился у него русским человеком. Несколько лет производя кражу по чужим огородам, он возгорелся вдруг честолюбием, захотел ордена и заважничал страх, когда хозяин повесил ему не шею звонок, не размысля того, что теперь всякая кража и пакость его будут видны всем и привлекут отовсюду побои на его бока. Словом — всюду у него Русь и пахнет Русью...
Поэт и мудрец слились в нем воедино. У него живописно всё, начиная от изображения природы пленительной, грозной и даже грязной, до передачи малейших оттенков, разговора, выдающих живьем душевные свойства. Всё так сказано метко, так найдено верно и так усвоены крепко вещи, что даже и определить нельзя, в чем характер пера Крылова. У него не поймаешь его слога. Предмет, как бы не имея словесной оболочки, выступает сам собою, натурою перед глаза. Стиха его также не схватишь. Никак не определишь его свойства: звучен ли он? легок ли? тяжел ли? Звучит он там, где предмет у него звучит; движется, где предмет движется; крепчает, где крепнет мысль, и становится вдруг легким, где уступает легковесной болтовне дурака. Его речь покорна и послушна мысли и летает как муха, то являясь вдруг в длинном, шестистопном стихе, то в быстром, одностопном; рассчитанным числом слогов выдает она ощутительно самую невыразимую ее духовность...
От Крылова вдруг можно перейти к другой стороне нашей поэзии — сатирической. У нас у всех много иронии. Она видна в наших пословицах и песнях и, что всего изумительнее, часто там, где видимо страждет душа и не расположена вовсе к веселости. Глубина этой самобытной иронии еще пред нами не разоблачилась, потому что, воспитываясь всеми европейскими воспитаниями, мы и тут отдалились от родного корня. Наклонность к иронии, однако ж, удержалась, хотя и не в той форме. Трудно найти русского человека, в котором бы не соединялось, вместе с уменьем пред чем-нибудь истинно возблагоговеть,— свойство — над чем-нибудь истинно посмеяться... В разные эпохи появлялось у нас множество сатир, эпиграмм, насмешливых перелицовок наизнанку известнейших произведений и всякого рода пародий едких, злых, которые останутся, вероятно, всегда в рукописях и в которых всюду видна большая сила... Но сатира скоро попросила себе поприща обширнейшего и перешла в драму. Театр начался у нас так же, как и повсюду, сначала подражаниями; потом стали пробиваться черты оригинальные. В трагедии явились нравственная сила и незнание человека под условием взятой эпохи и века; в комедии — легкие насмешки над смешными сторонами общества, без взгляда на душу человека... Но всё это побледнело перед двумя яркими произведениями: перед комедиями Фонвизина «Недоросль» и Грибоедова «Горе от ума», которые весьма остроумно назвал князь Вяземский двумя современными трагедиями. В них уже не легкие насмешки над смешными сторонами общества, но раны и болезни нашего общества, тяжелые злоупотребления внутренние, которые беспощадною силою иронии выставлены в очевидности потрясающей. Обе комедии взяли две разные эпохи. Одна поразила болезни от непросвещения, другая — от дурно понятого просвещения.
Комедия Фонвизина поражает огрубелое зверство человека, происшедшее от долгого бесчувственного, непотрясаемого застоя в отдаленных углах и захолустьях России. Она выставила так страшно эту кору огрубения, что в ней почти не узнаешь русского человека. Кто может узнать что-нибудь русское в этом злобном существе, исполненном тиранства, какова Простакова, мучительница крестьян, мужа и всего, кроме своего сына? А между тем чувствуешь, что нигде в другой земле, ни во Франции, ни в Англии не могло образоваться такое существо. Эта безумная любовь к своему детищу есть наша сильная русская любовь, которая в человеке, потерявшем свое достоинство, выразилась в таком извращенном виде, в таком чудном соединении с тиранством, так что, чем более она любит свое дитя, тем более ненавидит всё, что не есть ее дитя. Потом характер Скотинина — другой тип огрубения. Его неуклюжая природа, не получив на свою долю никаких сильных и неистовых страстей, обратилась в какую-то более спокойную, в своем роде художественную любовь к скотине, наместо человека: свиньи сделались для него то же, что для любителя искусств картинная галерея. Потом супруг Простаковой — несчастное, убитое существо, в котором и те слабые силы, какие держались, забиты понуканиями жены,— полное притупление всего! Наконец сам Митрофан, который, ничего не заключая злобного в своей природе, не имея желания наносить кому-либо несчастие, становится нечувствительно, с помощью угождений и баловства, тираном всех и всего более тех, которые его сильнее любят, то есть матери и няньки, так что наносить им оскорбление — сделалось ему уже наслаждением. Словом — лица эти как бы уже не русские; трудно даже и узнать в них русские качества, исключая только разве одну Еремеевну да отставного солдата...
Комедия Грибоедова взяла другое время общества — выставила болезни от дурно понятого просвещения, от принятия глупых светских мелочей наместо главного, словом — взяла донкишотскую сторону нашего европейского образования, несвязавшуюся смесь обычаев, сделавшую русских не русскими, но иностранцами. Тип Фамусова так же глубоко постигнут, как и Простаковой. Так же наивно, как хвастается Простакова своим невежеством, он хвастается полупросвещением, как собственным, так и всего того сословия, к которому принадлежит: хвастается тем, что московские девицы верхние выводят нотки, словечка два не скажут, всё с ужимкой; что дверь у него