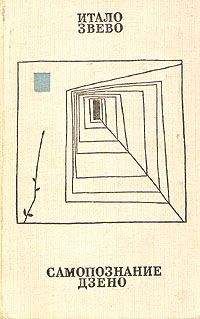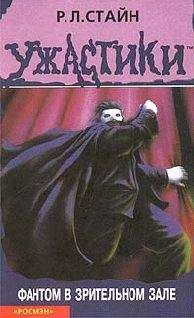Представление завершается каскадом фантомов.
В приемной Балалайкина появится Очищенный (А.Вокач), полуводевильный-полудраматический персонаж, бывший тапер из заведения Дарьи Семеновны. Его функция — подчеркнуть нечистоплотность, тошнотворность «деятельной благопристойности». Он преуспевает в этой своей функции, вызвав «крик души» Глумова: «Воняет!» Но один раз, словно внезапно перейдя в лагерь автора, Очищенный даст серьезную и трагическую характеристику всего этого бытия… А в доме Фаинушки нас ждет ее метрдотель и фаворит «странствующий полководец» Редедя, тип, приближающийся к абсурдному началу представления, законченный в своем роде образ. А.Мягков создает почти цирковой этюд. Если продолжить сравнение с цирком — это «рыжий» спектакля. Его, как и Очищенного, не следует впрямую сравнивать с Редедей романа. Там в этом образе Щедриным развернуто сатирическое изображение так называемой «восточной политики» русского царизма. В спектакле Редеде отведена роль некоего комического монстра петербургских гостиных. Пластическое мастерство Андрея Мягкова в этой роли отменно.
Мы познакомимся и с самой Фаинушкой (Н.Дорошина). Функция ее — демонстрировать свои стройные ножки. Это она делает непринужденно, мимоходом — чем и окончательно подвигает Глумова пойти на содержание к ней, содержанке, сиречь к необратимому «превращению».
Здесь, наконец, мы впервые увидим и Кошелек Квартала — Ануфрия Петровича Парамонова (В.Тульчинский).
Но все эти типы — повторим — не более чем маски, литературные фантомы, обратившиеся в некую дурно пахнущую консистенцию, в которой оказались два недавних либерала, вступившие на «стезю деятельной благонамеренности».
Но если один из них без колебаний вошел туда, куда никакие подозрения в чистоте его намерений за ним не последуют, то второй, в финале спектакля, стоя под лучом прожектора, заканчивает свой конферанс уже на трагической ноте, резко сбивая овладевшую было зрителями водевильную стихию: — «Оба мы одновременно перепоясались на один и тот же подвиг, и вот я стою еще в самом начале пути, а он не только дошел до конца, но даже получил квартиру с отоплением… А я должен весь процесс мучительного оподления проделать с начала и по порядку; я должен на всякий свой шаг представить доказательство и оправдательный документ, и все это для того, чтобы получить в результате даже не усыновление, а только снисходительно брошенное разрешение: живи!»
В глазах его слезы.
В этот момент актер в очередной и последний раз покидает свой образ, и до нас доходит мука и страсть великого ума и сердца, истинная любовь к своему отечеству и забота о нем. Салтыков-Щедрин есть положительный и, если хотите, идеальный герой этого спектакля…
…Таких легкомысленных людей…
таких неделовых, странных, я еще не встречал.
Лопахин
…а на самом деле ничего нет, все, как сон…
Варя
Grand rond balancez![2]
Симеонов-Пищик
В последние пятнадцать лет в нашем театре произошло ясно видимое изменение в отношении к драматургии Чехова. В эти годы он вновь стал репертуарным автором. Если в конце 40-х и в 50-е годы его ставили мало, нередко попросту считали «скучным» для зрителя, то сегодня положение иное. Лучшие чеховские спектакли увлекают, о них спорят, они заставляют размышлять не только о прошлом. В них беспокойство, тревога, неприятие пошлого, бездуховного существования, призыв к глубокому проникновению в отношения людей. В чеховских пьесах открывают все новые пласты, неиспользованные возможности. «Странности», «нелогичности» его пьес, перед которыми останавливались современники, получили сегодня новое осмысление, связанное с новым знанием о человеке и обществе, с новыми, воспитанными кинематографом, радио и телевидением, возможностями зрителя додумывать, воображать, соучаствовать в сценическом представлении.
Если раньше в чеховских спектаклях нередко подчеркивались элегические мотивы, приглушенные тона, замедленные ритмы и благодаря этому он представал порой как бы «отставшим» от динамики нынешней жизни, то теперь он предстает на сцене резким, внутренне напряженным, гражданственно определенным и в то же время многозначным.
Спектакль «Вишневый сад», поставленный молодым режиссером Р. Горяевым в Ленинградском театре имени А. С. Пушкина, показателен для современного подхода к чеховским пьесам. Он демонстрирует многие черты и направления сегодняшних поисков.
Диссонанс. Слом. Гармония осколков. Нечто радующее глаз и возмущающее его. Наглядное, даже навязчивое. И размытое. В мебели и в том, что на стенах — интимное, душевное. Присутствие ушедших людей ушедшего времени. А вся декорация холодная, осколочная, мозаика знакомых частей, составленных в ином против реальности порядке. Точно нас быстро прогнали по незнакомому дому и теперь мы поспешно, боясь забыть, восстанавливаем в памяти его вид…
Был дом, был прекрасный белый дом, помещичий ампир первой четверти прошлого века. Вещи, сделанные еще крепостными потомственными мастерами, ровесниками родителей Фирса, например, шкаф, который Гаев принимает за живое существо. И вещи городские, входившие вместе с веком, постепенно. На стенах портреты, картины маслом, миниатюры — каждая в своей раме, рамочке, а некоторые рамки пусты. Стены а таких домах с характером, точно люди.
Теперь вообразите, что это все разрезали на части, потом вдруг быстро собрали и многое не встало на свое место. Поэтому одна стена видна из-за другой, а терраса переходит в «детскую» совсем не так, как «в натуре», а там, глядишь, открывается гостиная, а там какой-то переход, ступени и, внезапно, одинокая колонна — воспоминание о парковой «Аркадии» в заросшем саду. И множество еще мест, проходов, коридоров наплывает точно в болезненном воображении, торопящемся насытиться всем этим, наглотаться, потому что вот-вот это уйдет, исчезнет… Так, может быть, Любовь Андреевна Раневская «составляла» в памяти свой дом там, в Париже, на утлом пятом этаже, дом, казавшийся ей последним прибежищем в крушениях ее женской судьбы. Не оставляет мысль, что декорации художника И.Иванова как бы плод чьего-то воображения, возможно, той же Реневской, что все это словно бы вращается, когда недвижно, и обретает неожиданную устойчивость, когда вращается…
В музыке, открывающей спектакль, звуки под стать декорации: барабан, взрыв, гроза, звон колокольцев. Аккорды резкие, жесткие и какие-то хрупкие. Потом возникает одна длинная нота…
Одна нота сосредоточивает нас и в декорации. Ветви. Словно осенью, когда опадают листья, тонкие мелко изломанные ветки вишневых деревьев образуют черную решетку, нудную, как мелкий дождик, «совсем некрасивую», «корявую», как со свойственной ему точностью сказал Бунин. И эта «корявость» здесь есть. Художник подчеркивает сухое, нецветущее, в то время как за окном, как и положено, мелким белым цветом цветет вишневый сад, и утреннее майское солнце наносит на стены свои блеклые мазки.
Ветви всюду. Возле потолка, посредине стены, на колонне… Они действуют, эти назойливые черные прутья, украшают и раздражают в зависимости от ассоциаций зрителя. Они присутствуют — вот что важно! Как важно и то, что они — не «натура». Они — нечто. Это становится очевидным, когда замечаешь, что одна ветвь, изогнувшись, прошла сквозь стенные часы… Заклинилось время? Становится страшно, даже неприятно. Что это? Метастазы какие-то, как сказал кто-то. А ведь метко. А что такое сам «реальный» вишневый сад для этих вот людей? Неплодоносящий, никчемный. Знак нетленной красоты? Привычка? Традиция? А может быть, опухоль, мешающая их здоровой жизни?
Но на это нам и должно ответить то, что произойдет.
…Светает, и «наплывы» продолжаются. Белые тени люстр на сером, «фетровом» фоне. Холодно. И вдруг вразнобой начинают бить часы. Их много в этом доме. Хотя и невидимые, они сгрудились, сбежались где-то вместе. Вот с «кукушкой», дискант, тенор, вот солидный бас, тяжелый бой напольных, древних. Символ? Да, и весьма прозрачный. Время разбежалось, у каждого свое. (Многие мотивы в этом спектакле предлагают себя сразу, как бы не стесняются наглядности.) Кто-то сидит в кресле с высокой спинкой, нам не видно, лишь белая тонкая рука на подлокотнике. Сидящий засыпает, и книга падает на пол. От ее падения спящий просыпается, потягивается, его руки длинными пальцами обнимают спинку кресла, прохаживаются по ней, потом жадно ощупывают. Символ? Да и не слишком сложный. У Лопахина «загребущие» руки.
«— Я-то хорош… Сидя уснул. Досада… Хоть бы ты меня разбудила».
У Чехова эти слова Ермолай Алексеевич произносит, входя в комнату. Здесь он сперва показывает, как это он сидя уснул. Наглядность входит в режиссерские намерения? Дальнейшее показывает, что входит. Но и сами режиссерские, намерения наглядны. И первое из них — представить «Вишневый сад» комедией, как просил о том автор.