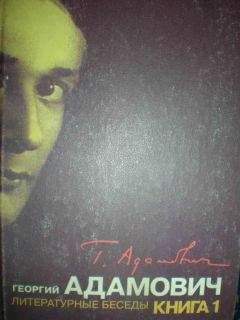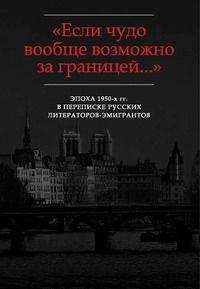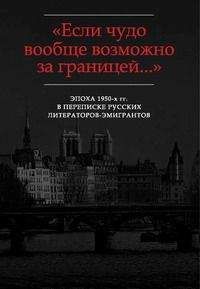Затем покончим со второй иллюзией: будто бы «трудность» цветаевского искусства является доказательством его значительности и глубины. По замечанию одного из критиков, у Цветаевой постоянная тяжба со средним читателем, с Иваном Ивановичем, с обывателем, — и вина за это падает будто бы всецело на обывателя. Не спорю, часто бывают Иваны Ивановичи грешны перед искусством, в особенности самонадеянные и ограниченные Иваны Ивановичи. «Не понимаю — значит, никуда не годится», — решают они и не догадываются, что не все им дано сразу понять. Но неужели всегда правы поэты, всегда виноваты обыватели? Сомневаюсь. Цветаева не так глубока и сложна, чтобы за ней трудно было следовать, — если бы только она своим пифийством не кокетничала. Не могу обойтись без этого насмешливого слова, — оно здесь самое верное. Цветаева обрывает мысль или стих там, где он начинает проясняться, как бы боясь этого прояснения. Она вскрикивает там, где крик внутренне ничем не оправдан. Общая ее загадочность питается тем, что правильнее всего было бы назвать — без всякого желания обидеть — творческой недобросовестностью, а может быть, и творческим безволием. В связи с этим находится ее никогда не слабеющий, никогда не изменяющийся пафос: порой от него веет таким холодом, будто от унылого упражнения, — а слова все необыкновенные, а степени только превосходные, а знаки все только восклицательные! И вот думаешь: не надрывает ли себя эта душа, которой по-человечески хотелось бы и задуматься, и погрустить, и усомниться, и устать, и поскучать, — не надрывает ли она себя этой монотонной, беспричинной восхищенностью и не губит ли своей поэзии? Это все относится к внутренней «трудности» Цветаевой. А внешне? Цветаевой, по-видимому, претят певучесть и гладкость, ей опостылели сладковатые итальянизмы русской стихотворной речи, она заставляет свой стих спотыкаться на каждом шагу, ей хочется грубой, дикой выразительности… Беда в том, что эти желания ее упали на слишком благодарную почву. Оказалось, что Цветаева «преодолела» музыку слишком легко, и даже никакой борьбы с музыкой у нее не вышло, а та просто исчезла из ее поэзии, бесследно и окончательно, по первому требованию. Ухо начинает все чаще изменять нашему поэту. Я не о таких мелочах говорю, как невозможные для произношения сочетания согласных (вроде, например, такого стиха: «лампа нищенств, студенчеств…» — шесть согласных подряд), а о потере чувства ритма, иногда очевидной.
Еще и еще мог бы я продолжить эти «оговорки». Но не хочу, начав во здравие, кончить за упокой. И кончу во здравие.
Нельзя все-таки сомневаться, что Марина Цветаева — истинный и даже редкий поэт. Помимо той «эротичности», о которой я только что говорил, у нее есть и другое свойство, не менее сильно покоряющее: есть в каждом ее стихотворении единое цельное ощущение мира, т. е. врожденное сознание, что все в мире — политика, любовь, религия, поэзия, история, решительно вес — составляет один клубок, на отдельные ниточки не разложимый. Касаясь одной какой-либо темы, Цветаева всегда касается всей жизни. На условном, квазинаучном языке можно было бы сказать, что ее поэзия на редкость «органична». Но, как будто нарочно, все силы свои Цветаева прилагает к тому, чтобы это скрыть.
Только что появилась в печати вторая часть «Хождения по мукам» Алексея Толстого – «Восемнадцатый год», книга долгожданная, во многих отношениях замечательная и в конце концов все-таки разочаровывающая.
Ал. Толстой – человек талантливейший. Кто этого не знает, кто против этого спорит? Но он на редкость неровный писатель. Ум ли изменяет ему, ослабевает ли воля, или просто Толстому слишком часто приходится спешить, – сказать трудно, но едва ли у кого-нибудь из современных беллетристов можно найти такое причудливое соединение блестящего с тусклым, высокого с ничтожным, значительного с нелепым. Правду сказать, казалось до сих пор, что больше всего в этом повинна толстовская беспечность, небрежность. Казалось, пишет он «как из ведра»: даровитость увлекает его, легкость творчества соблазняет, а захоти он, как другие, подолгу отделывать, обтачивать, обдумывать каждую страницу, каких бы только чудес мы от него не дождались бы! Казалось, что Толстому все доступно. Но вот с выходом «Восемнадцатого года» приходится с этой иллюзией расстаться. Не все доступно Толстому. Этому первоклассному рассказчику не по силам оказался большой роман.
В чем дело? – с недоумением спрашиваешь сам себя. Ведь написано местами удивительно, хочется даже сказать, неподражаемо, – с такой зоркостью взгляда, с такой находчивостью и прелестью слова, что большего желать нельзя. Ведь все льется свободно. Ведь лица все живые и, действительно, их, как живых, видишь и слышишь… Одним словом «ткань» нового толстовского романа такая же, как в лучших его вещах. В чем же дело? Думаю, что в первый раз мы явственно ощущаем границу толстовского дара, как бы коснулись «дна». Дальше, глубже идти он не может, – между тем как та жизнь, которую воссоздает, представляет или описывает автор, идет и дальше, и глубже…
Толстой, в сущности, захотел написать новую «Войну и мир», — огромный роман, где чередуются картины частного, скромного существования с картинами великих потрясений. Сравнение с «Войной и миром» никому не может быть выгодно, и никаких параллелей я проводить не собираюсь. Но все-таки следует сказать, что такой замысел требует такой же внутренней мощи. Не важно ведь, что в «Войне и мире» все характеристики безошибочны и все описания наглядны, — важно, что над целым витают душа и сознание автора, как Саваоф над хаосом. И постоянное присутствие этой души, проникая в каждое слово, в каждую мельчайшую мелочь, всему дает единую, непрерывную жизнь. Автор «Войны и мира» знает нечто для себя несомненное о человеческом бытии, и с этой точки зрения героев своих не то что судит, нет, – но располагает и освещает. У него все «координировано». То же самое можно сказать о Флобере и, в особенности, о Бальзаке. Алексей Толстой восхитительно пишет, страницу за страницей, главу за главой. Но он не способен подняться над целым, окинуть все одним взглядом. Наблюдатель он превосходный, но художник все-таки ограниченный. После «Восемнадцатого года» обольщаться больше нечего. Одной небрежностью или торопливостью неудачу Толстого объяснить нельзя. Толстой оказался не в силах охватить свое создание, и, ничем не сдерживаемое, оно разваливается.
Как вероятно помнит читатель, первая часть трилогии «Хождение по мукам» начиналась с описания Петербурга в предвоенные годы и кончалась революцией. В предисловии Толстой обещал, что вся трилогия отразит «трагическое десятилетие русской истории». Тогда же он охарактеризовал «Восемнадцатый год» так:
«Вторая часть трилогии происходит между 17 и 22 годами, в то время, когда Россия переживала нерадостную радость свободы, гнилостный яд войны, бродивший в крови народа, анархию и бред, быть может, гениальный, о завоевании мира, о новой жизни на земле, междоусобную войну, нищету, голод, почти уже нечеловеческие деяния… Грядущее стоит черной мглой перед глазами».
Третья часть, по мысли автора, должна стать «апофеозом русской женщины». О ней говорить рано: поживем – увидим. Но «Восемнадцатый год» не оправдывает широковещательных обещаний Толстого.
Герои «мирной» части романа те же, что были и прежде: две сестры, Катя и Даша, их мужья, их отец, Дмитрий Степанович Булавин, – и другие. Конечно, в восемнадцатом году их существование менее благополучно. Гражданская война разделила прежних друзей. Одни воюют против других, жены разлучены с мужьями, Даша стала чуть ли не террористкой, Катя – махновской пленницей, доктор Булавин – министром какого-то недолговечного правительства. Главнейшая, во всяком случае количественно самая значительная часть романа занята военными сценами. Вероятно, художественное чутье Толстого было смущено тем, что события, им описываемые, еще слишком от нас близки, многие участники их еще живы и что, рассказывая о них, он волей-неволей превращается из романиста в репортера. Корнилов, Каледин, Алексеев, Деникин, Колчак, Керенский, большевистские вожди — их ведь нельзя «воссоздать», пока они еще не отошли в прошлое и легенда не окутала их имена. Толстому, несомненно, внушили в советской России, что отсутствия перспективы опасаться нечего и, даже наоборот, необходимо писателю писать лишь о самом злободневном, «а не о каких-нибудь там Людовиках». Толстой поверил — и за доверчивость жестоко поплатился. Его военные сцены в целом сухи и скучны, как отчет. Невозможно следить за ходом действия в них: если это история, то лучше взять учебник; если это литература, то незачем механически загромождать ее названиями и подробностями, которые ни чувству, ни мысли ничего не говорят. Кое-какие военные главы все же очень хороши, – например, те, где появляется красный главнокомандующий Сорокин, безумный и спившийся человек, с пеной у рта, с глазами, налитыми кровью, бросающийся в безнадежные атаки. Тут Толстой становится самим собой.