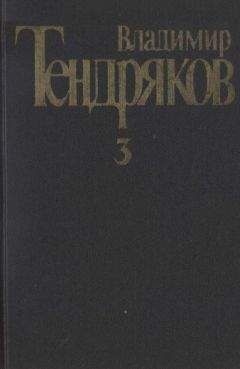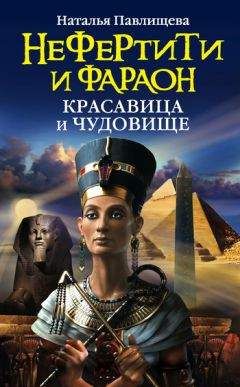Умиление Нины перед собственным самопожертвованием приелось ей самой.
Как-то Федор, не зная, куда девать себя, поднялся по темной лестнице старенького особняка. Открыла Нина…
Был чай, Федор пил из чашки саксонского фарфора…
Эта неизменная чашка снова поставлена перед Федором.
— Дай мне кусок бумаги, — попросил он у Нины.
Все еще в голове скрипка боролась с чугунно тяжелыми словами, звучал смех детей…
И разбужена память…
Посреди войны, оборвав на минутку утомительный поход, поет такая же скрипка…
Румын в каторжной щетине — солдат в шинели врага…
И боль не за себя. И благодарность до слез…
Вот если б повторить голос скрипки на холсте! Повторить так, чтобы каждого потрясло простое, как само слово «любовь», открытие: на свете есть не только кровь, трупы, пожарища…
Федор склонился над листом бумаги. Толстый карандаш набросал высокую обочину дороги, вверху — узкая полоска неба, на фоне неба ноги в сапогах и обмотках размешивают фронтовую дорогу. Внизу, под скатом обочины, — два солдата, два недавних врага. Один, молодой, прижимает к себе винтовку, другой, пожилой, сидит растрепанным вороном, склонился над скрипкой. Скрипка, шагающие ноги создают особый ритм. Мучительное напряжение на лице молодого, отрешенная поза скрипача, а остальное должен решить свет: небо с робкой утренней зарей, отблеск на каске, глянцевитый блеск скрипки.
Можно добиться — на холсте зазвучит музыка…
Нина, подперев рукой подбородок, следит за карандашом. Полную грудь и покатые плечи облегает цветистый халат. Нина раздобрела за последнее время, раздалась вширь, от нее на расстоянии тянет зазывным теплом, по-прежнему невозмутима и величава, как и в былые времена, — немой восторг на лице перед творением Федора, хотя на листе бумаги лишь грубый набросок, не картина, а ее иероглиф, ничего не говорящий непосвященному.
Федор повертел его, оценивающе разглядывая со стороны:
— А можно добиться. Можно, черт возьми, взять за горло!.. Эх! Забыть бы о том, что нужно жрать, одеваться, спрятаться бы. утонуть в большой работе, ничего не зная, ничего не слыша! Завтра мне придется писать окорока для витрины…
Нина привалилась плечом, заглянула в глаза:
— Федя…
— Что? — очнулся, отрываясь от наброска.
— Федя, как ты ни кружишь, а всегда возвращаешься ко мне… Федя, подумай…
— О чем?
— О том, чтобы остаться здесь… навсегда…
— Проблема сытости, увы, нашим сближением решена не будет.
— Федя, я заброшу свою живопись… Ну ее. Я бездарна. Я буду добывать и для тебя и для себя хлеб. Я буду работать как каторжная. Хоть воровать готова… Ты ни в чем не станешь нуждаться. Эту комнату мы превратим в прекрасную мастерскую. Ты будешь у меня на глазах создавать шедевры, о тебе скоро заговорят. И я тобой стану гордиться… Федя, оставайся навсегда… Сейчас, сию минуту. — Нина заглядывала в глаза, а он молчал. — Зачем кружить, Федя? Возвращаешься же, возвращаешься!.. Подумай — не я ли твоя судьба?.. И я о тебе много раз думала… А Православный… Я же к нему бросилась, потому что тебя забыть хотела. Я тоже кружусь вокруг тебя. Оставайся.
Федор молчал. Он верит в то, что она говорит искренне. Да, она в первые дни отважно бросится искать работу, быть может, даже найдет, устроит, станет оберегать, но в первые дни… А потом пройдет угар, надоест ждать славы, начнутся будни. Федор еще раньше поймет, что не имеет права он, сильный, здоровый, сидеть на шее женщины. Нина любит или героев, или несчастных. Нет, он не хочет повторять судьбу Левы Православного.
— Ну, Федя, что же ты молчишь?
И он ответил:
— Мой путь к вершинам искусства лежит через твою постель?
Плечи Нины обмякли, складки на лице оплыли вниз.
— Ты не любишь… Тогда зачем делать круги, зачем возвращаться к этому порогу?
Федор не ответил. Любит ли?.. Кивни та, что он случайно встретил в переулке, — забыв Нину, пойдет следом, не спрашивая куда. Да и не только Нину. Один кивок — и он забудет ненаписанные картины, забудет самого себя, вались в тартарары великое искусство!
— Прости, мне надо идти, — сказал он.
— Бежишь? Боишься прямо сказать?..
— Нина, ты права, мне, наверно, не нужно приходить сюда больше. Когда очень одинок, я вспоминаю тебя. И мне тогда с тобой хорошо.
— А когда не одинок, ты меня не вспоминаешь?
— В том-то и дело, Нина. Прости, мне нужно идти…
Она уронила на руки голову и заплакала. А вокруг нее на стенах висели на подрамниках холсты, ее последние работы — опушки леса, вьющиеся тропинки, крыши Тарусы, где Нина отдыхала летом. Все написано в сладковато-розовых тонах, расчетливо широкими мазками — наивные потуги на хлесткость. Она не способна, она менее приспособлена к жизни, чем он, Федор. И такая уверяет — вытяну тебя. Уверяет искренне, доверчиво, но преступно этим пользоваться.
— Извини, Нина, не хотел тебя обидеть…
Он взялся за ручку двери, и она вскочила. Сияющие от слез глаза в покрасневших веках, спутанные локоны, в вырезе халата белая душистая кожа.
— Федя… Пусть будет по-прежнему… Ты же уходишь не совсем? Ты же вернешься?
И у него не хватило мужества сказать — «не вернусь».
— Да, да, я приду… Ты только успокойся.
— Забудем, что я говорила. Ты только приходи… Ты одинок, и я ведь тоже… Я себя выдумываю не одинокой.
— Приду, Нина, — сказал он на этот раз искренне.
Они не так уж избалованы вниманием людей, чтоб совсем отказаться друг от друга. Обоим будет тяжело, если между ними окажется наглухо захлопнутая дверь.
— Приду…
Он ушел.
Он ушел к чужим людям, к случайным, неуютным стенам. У Нины ему лучше, теплее, но он не хочет этим пользоваться.
3
В конце Арбата в сторону уходит Денежный переулок. На самых задворках строящегося высотного здания на Смоленской площади — дом. Собственно, под одним номером — четыре дома. Фасадом служит двухэтажный особнячок с высокими окнами нижнего этажа — с виду сытый, благополучный, чопорно старомодный, украшенный затейливой лепкой по карнизам. За ним во дворе — корпус в четыре этажа, старый и неряшливый плебей с оскаленной штукатуркой. В глубине двора кирпичное пятиэтажное здание. Есть еще флигелек — обшитая тесом стена вспучилась наружу, от чего флигелек кажется беременным.
Федор, простившись с институтом, сиял в четырехэтажном корпусе узкую комнатушку с койкой, шатким столиком и стулом. Его хозяйка — Вера Гавриловна, у нее отдельная квартира из трех комнат, трое детей и нет мужа. Впрочем, муж жив, но где он — неизвестно.
В мире, наверно, никогда не переведутся странники. Прежде бежали из семьи к святым местам, мерили посохом бесконечные российские дороги от Троице-Сергиевой лавры до Печерской, от Печерской до Нового Афона или же через всю Европу с юга к Белому морю, к Соловецкому монастырю: «Подайте божьему страннику на пропитание…»
Теперь странник иной. Муж Веры Гавриловны до сорока пяти лет добросовестно служил в почтовом отделении, в восемь уходил на работу, в шесть вечера возвращался, пьян бывал только по большим праздникам, да и то умеренно, с женой скандалил не чаще других. И ничего не случилось — не было неприятностей ни на службе, ни дома, не связывался, кажется, на стороне с юбкой, — просто в один майский день взял на работе расчет, не прощаясь сел в поезд, с дороги написал: «Не вернусь…»
Вера Гавриловна бегала в милицию, подала заявление в суд — за детей-то должен отвечать или нет? И вместе со скудными денежными переводами приходили еще более скудные сведения — сначала работал где-то на стройке под Новосибирском, переехал в Читу, завербовался на Сахалин… Неприкаянный странник без посоха, паломничающий не по святым местам, а по таежным стройкам, — жив дух бродяжничества!
А в его старом гнезде в Денежном переулке, близ шумного Арбата, бродила бесцельно из одной неприбран-пой комнаты в другую нечесаная, неряшливо одетая женщина и, натыкаясь на детей, кричала:
— Чем я вас, дармоедов, кормить буду? На какие шиши? Приспал, стервец, да бросил мне на шею! Висите? А вот возьму да стряхну. Живите как хотите!
Это единственное, в чем проявлялась Вера Гавриловна. Остальное время она, полуодетая, валялась на кровати, сосредоточенно листала какую-нибудь случайно занесенную книжонку. Иногда, накинув замусоленный халат, с нечесаной головой спускалась во двор, часами точила лясы с соседками — не жаловалась, не возмущалась, а просто занимала себя разговорами о погоде, о ценах на базаре, о дворнике Шарапе, который спутался с буфетчицей Любкой из тринадцатой квартиры.
Другая бы на ее месте высохла от забот, извелась бы до белой горячки, — Вера Гавриловна была из бесшабашных натур. Прошло первое ошеломление после бегства мужа, первый испуг. Вера Гавриловна палец о палец не ударила — все устраивалось само собой. Сам собою нашелся жилец, сам собою сын Виктор стал учеником электромонтера, да дочь — она самая старшая — давала кое-что из заработка в семью, — жили. Вера Гавриловна тоже собиралась поступить на работу, но, видать, ждала, что и это устроится само собою.