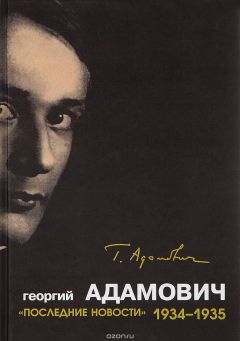Я встречался с ним, — особенно в прежние годы, — довольно часто. Никогда нельзя было заранее знать, с чем пришел сегодня Поплавский, кто он сегодня такой: монархист, коммунист, мистик, рационалист, ницшеанец, марксист, христианин, буддист, или даже просто спортивный молодой человек, презирающий всякие отвлеченные мудрости и считающий, что нужно только есть, пить, спать и делать гимнастику для развития мускулов? В каждую отдельную минуту он был абсолютно искренен, — но остановиться ни на чем не мог.
Как-то у Мережковских за воскресным чайным столом шел долгий спор, — не помню сейчас на какую тему. Поплавский что-то страстно доказывал, разрушал, проповедывал, и, вдруг, в случайно образовавшейся тишине, послышался его обиженный голос:
— Не забывайте, Зинаида Николаевна, что я имею твердые демократические убеждения…
Фраза сама по себе ничуть не смешная. Но раздался общий неудержимый хохот. Эти «твердые демократические убеждения» у Поплавского были такой несуразностью, что рассмеялся, в конце концов, и он сам. Разумеется, в момент спора — убеждения существовали, но через полчаса или на следующий день они могли исчезнуть бесследно и безвозвратно.
Отсюда — главный порок Поплавского: ему нельзя было верить. Ни в чем. Но изменял он и самому себе, и другим, как ребенок, — забывая то, в чем только что клялся и что обещал. Упрекать его было невозможно, потому что эти измены происходили как бы помимо его воли, даже помимо сознания. Все неслось, все стремительно летело куда-то в этом измученном и женственном сознании, — неспособном дать ровный свет, но сиявшем удивительными вспышками.
* * *
Можно ли быть поэтом с таким внутренним миром? Поэзия, — скажут, — ведь это не только писание «стишков», но и медленное создание единого образа, единого представления о жизни.
Да, конечно. Но вот чего не следует забывать… Европейская поэзия давно уже перестала быть поэзией личных творческих удач, превратившись в поэзию творческих катастроф. Собственно говоря, в русской литературе это не так заметно, — и, в частности, Пушкин еще стоит на пороге полной удачи, будучи, в этом смысле, отчетливее связан с XVIII веком, чем с тревожным и трагическим XIX. Но русская литература моложе западноевропейской по своему культурному возрасту и лишь в самое последнее десятилетие, чуть-чуть ослабев и растерявшись, она принялась ее спешно догонять и перенимать ее темы и мотивы. Поплавский был не только сыном этих десятилетий, но и детищем Запада, — по своей оторванности от России, по навязанному ему судьбой эмигрантски-парижскому положению. Для него Артур Рэмбо был по меньшей мере столь же дорог и близок, как и Пушкин, — потому что он во Франции вырос, во Франции сложился, и ее веяниями был пронизан. Духовная раздробленность новой западной культуры в его душе осложнилась еще тем, что попала она на психологически-чуждую почву, и Поплавский, неуравновешенный по природе, метался, не зная, куда пристать. Его лирика останется — невозможно в этом сомневаться, — в нашей поэзии. Но, конечно, останется она, как свидетельство веры в одно только музыкальное начало творчества, или как завещание человека, для которого музыка была «соломинкой утопающего». Это, может быть, и небольшое «достижение», но неудача это не совсем обычная, — и творческих элементов в ней больше, чем в ином счастливом разрешении ничтожных задач. Добавлю, что поэзия Поплавского в какой-то доле выражает наше время, и поэтому она серьезна и значительна. Не ее вина, если время попалось ей, поистине, «смутное».
Да, Монпарнас, бессонные ночи, никчемные, изнурительные блуждания, дурные знакомства… Но не только же это, и не только же в этом дело! Поплавский остался бы таким, как был, везде, в любых условиях, и внутренняя драма его, право, была гораздо сложнее и глубже, нежели печальная история «гуляки праздного» обычного типа. Кстати, и его обожаемый Рэмбо был гулякой, да еще таким, что нашим теперешним за ним, пожалуй, не угнаться! Прошло, однако, полвека, и люди того же самого склада, которые его когда-то презирали, теперь, надев очки, изучают каждую его запятую и переплетают его стихи в тысячефранковые сафьяны. Я вовсе не оправдываю праздность. Но нельзя судить человека по образу его жизни.
Поплавский, к тому же, не только болтал по ночам в кафэ. Он иногда целыми днями просиживал в библиотеке, он запоем писал, он часами сидел один — и думал. Если бы понятие «работы» свелось только к тому, что люди должны ходить на службу и добывать средства на пропитание, мир был бы, вероятно, спокойнее, порядочнее и благополучнее. Но, наверно, он был бы и неизмеримо беднее.
* * *
Как ни своеобразны, певучи, находчивы, остроумны, как ни пленительны стихи Поплавского, я думаю, что по-настоящему должен был он найти себя не в стихах, а в прозе. Надо надеяться, что два его романа будут рано или поздно обнародованы. Я знаю только отрывки: есть среди них страницы восхитительные.
В стихах стеснял его самый механизм рифмованной и размеренной поэзии, как стесняет он сейчас без исключения всех поэтов. Что-то в этом механизме сломано, пустить его полностью в ход невозможно, и даже такие современные стихотворцы, как Пастернак или Марина Цветаева, мнимо-ширококрылые, горделиво претендующие на полет и свободу, в действительности спотыкаются на каждом шагу. Достаточно вслушаться в их ритм, чтобы в этом убедиться. Стихи сейчас предают и принижают тех, кто им служит, и Поплавский не избежал общей участи. В стихах он, как будто, искал спасения от своей острой, постоянной грусти, и нагромождал слова на слова, строфу на строфу, одна другой слаще, наряднее, красивее, затейливее и пестрее… Где-то у Алданова есть сравнение ораторского искусства Жореса с приемами Клемансо: Жорес, как будто, пускал к небу цветные воздушные шары, а Клемансо беспощадно прокалывал их острыми булавками. Однажды, беседуя о поэзии, я напомнил эти строки Поплавскому. Он усмехнулся, и, покачав головой, сказал:
— Да, да… Так и надо бы… Но как это сделать?
В прозе он, кажется, начинал видеть путь в темноте. Его «Аполлон Безобразов», конечно, так же личен и лиричен как стихи, но то, что в нем сказано, — сказано глубже и тверже.
У Поплавского было, — и до сих пор есть, — множество друзей. Уже теперь, в первые же дни после смерти, образовалось вокруг его имени нечто вроде «культа». Лучшее, что эти друзья могли бы сделать, — собрать все, что он оставил, и издать сборник его сочинений. Тогда и выяснится, правильны ли были бы теперешние полуутверждения, полудогадки о его несравненном даровании.
В советской печати довольно часто появляются сводки читательских отзывов о книгах и писателях. Они всегда любопытны, — если только не заметно в них редакторской обработки, как, например, в последней анкете «Литературного современника» о Пушкине.
Кто-то из московских критиков правильно заметил, что сейчас «главный интерес советской литературы не в писателе, а в читателе». Сводки отзывов помогают нам этого незнакомца понять — и, кстати, проверить, действительно ли есть в нем новые черты.
В восьмой книжке «Нового мира» помещены многочисленные суждения и заявления читателей-кол-хозников. Некоторые из них вызывают улыбку. Но в целом, это, конечно, материал более важный и значительный, нежели тенденциозная беллетристика или строго-марксистские статьи, напечатанные рядом.
Клавдия Харитонова, 23 лет, кандидат в члены партии, пишет: «С особым удовольствием читала Шолохова и “Анну Каренину” Толстого… По-моему, все-таки, Шолохов обижает женщину, смотрит на нее сквозь пальцы. А от этого получается у него так, что мужчины передовые, а женщины все в хвосте, отсталые, одной только любовью и живут. Это неверно! Ведь вот Толстой так прекрасно изобразил чувства Анны Карениной, что каждому слову его веришь, страдаешь душой за Анну. А главное, что Толстой намного лучше, чем Шолохов, отнесся к женщине своего класса. У него Анна стоит гораздо выше мужчины и не только Каренина, но и Вронского: она передовая, смелая, рвет с предрассудками, даже в то дикое время она не побоялась бросить мужа и уехать с любимым человеком».
Елена Турикова, 28 лет: «Очень нравится о путешествиях читать. Жюль Верна много раз читала — перечитывала. Любовные книги, где только об одной любви говорится — ну, как они там встречались, как он ее добивался — меня мало занимают, а вот если вместе с любовью о женской доле говорится, как женщина всего достигала сама — тогда очень интересно».
Пехлецкий, тракторист, 28 лет: «Не люблю современных книг. Скучно пишут! А мне надо, чтобы книга на нервы действовала и сердце от нее даже в дрожь бросало. Вот “Туннель» Келлермана! А у нас, если о строительстве пишут, так с первых строк можно догадаться, что дальше будет. А когда любовь присоединяют, то любовь совсем чахлая выходит. Еще очень не нравится мне, что действие за туманом длинных речей пропадает».