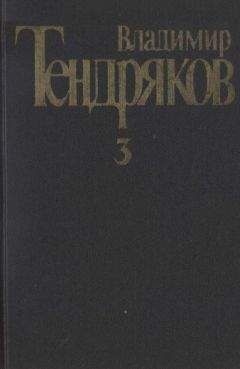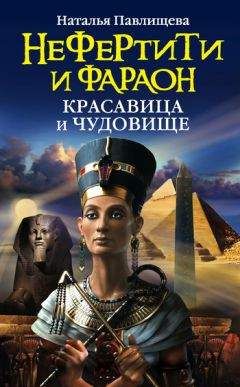Как хорошо, если б завтра не наступило… А ему придется пережить точно такое послезавтра, за ним еще такой же день, еще, еще — без конца. И будут вздохи Веры Гавриловны за стеной, мышиное шуршание Ани сменится писком младенца, у подворотни будут торчать мальчики в «бобочках», а он сам не переставая станет гоняться за случайными заработками…
«Зеленая улица», «Торпедо» — «Локомотив», «Дядя Ваня»… Вячеслав окончил картину…
Тянуть жизнь, длинную, однообразную, никому не нужную, ненужную даже ему самому. Нет надежд, а без них жить бессмысленно.
«Торпедо» — «Локомотив», «Зеленая улица», «Дядя Ваня»… Некуда идти, неохота двигаться.
«Дядя Ваня»… Помнится, как он читал эту пьесу в окопе. Осыпался песок со стенок от взрывов, в воздух взлетали тетрадные листы, и катался по земле глобус с отбитой подставкой — макет планеты, голубой от океанов.
«Дядя Ваня» — книжка, брошенная на бруствер взрывом. И он тогда каждую секунду ждал смерти. И дядя Ваня из книги жаловался ему на то, что придется прожить еще целых тринадцать лет, что нечем наполнить их…
Федору хотелось тогда очень немногого — просто выжить, ходить по улице по-человечески, а не ползать на брюхе. Он тогда ел один раз в сутки, ночью, когда приезжала полевая кухня. Он не умывался и спал в окопе — взрывы снарядов не будили, а будил голос в телефонной трубке, вызывавший «Тополь». А дядя Ваня спал в чистой постели, ел на белых скатертях, дарил цветы. Федор хотел выжить, дядя Ваня просил смерти. Он тоже мечтал: «Проснуться бы в тихое, ясное утро…» И его не будил ухнувший тяжелый снаряд, не стучали автоматы спозаранку, он жил в деревне, ему кричали петухи, занималась заря, роса пригибала траву.
Сейчас Федора тоже никуда не тянет, ничего не хочется, только уснуть и проснуться «в тихое, ясное утро»… Дядя Ваня заразен, уж не стареет ли он, Федор?
По земле мимо его ног катится детский мяч… Мяч, а не продырявленной осколком голубой глобус. И пули не свистят, и он может подняться со скамейки, пойти не пригибаясь, во весь рост. Катится мяч, непробитый глобус, девочка подхватила его.
Вячеслав окончил картину. Федору завтра придется возиться с магазинной витриной… Но черт возьми! Жизнь не кончена. Пусть завтра потеряно — отдай его окорокам и колбасам. А мало ли он потерял дней, таская винтовку? Пусть будут еще потеряны дни, месяцы, пусть даже годы! На закате жизни он вцепится зубами в искусство! И что за беда, если картины Федора Матёрина не заполнят залы галерей, их будет немного, но одну-две настоящие картины он выдаст. Одну, две, может, десяток, но — настоящие. Грибоедов прославился одной вещью.
«Зеленая улица», «Торпедо» — «Локомотив», «Дядя Ваня»…
Федор поднялся. Как приятно чувствовать, что без боязни можешь распрямиться во весь рост! Война за спиной. А война посерьезнее огорченных вздохов Веры Гавриловны или Лешки Лемеша, сторожащего сейчас у подворотни.
Вече написал картину! И чего-то в ней не хватает. Пейзаж какой-то безликий, взятый напрокат. Но пейзаж не главное, пейзаж — фон…
Пейзаж — фон?..
Федора осенило.
В картине не хватает третьего действующего лица, главного персонажа. Есть две жертвы, но нет виновника. Сидит пара влюбленных, а саму Любовь приходится предполагать, брать на веру, как заранее доказанную аксиому, — не показано. А показать можно! Показать нужно! Тот, кто любит, глядит на мир особыми глазами — зелень для него ярче, солнце ослепительней, небо глубже, каждая молекула воздуха заражена тревогой и счастьем. Дай этот преувеличенно ощутимый мир, дай его в пейзаже, он не фон, он главный герой, покажи, ради чего — прекрасного, высокого — решают тяжелый вопрос: «Что о нас скажут люди?» Столкни поэзию с прозой, необычность — с будничностью, счастье бытия и угнетенные лица — вот великое единство противоположностей, без которых не существует жизнь.
Федор стоял на присыпанной песком дорожке, у его ног играли дети, сквозь деревья была видна залитая солнцем городская улица, спешили люди, тысячи людей, не похожие друг на друга, — они несут свои радости и свои несчастья. И есть какая-то досадная разобщенность в них, озабоченно бежит каждый своим путем, прохожий не обращает внимания на прохожего…
У Вячеслава — картина без главного героя, он, Федор, сумел бы написать его портрет — воздух, создающий глубину, опаляющая зелень, пойманные лучи солнца… Как он написал бы это… Но текут по улице люди — прохожий не замечает прохожего. Портрет, сотканный из прозрачного воздуха и лучей солнца, — достаточно ли?.. Хочется сказать людям что-то большое, особое, что заставило бы всех вздрогнуть, остановиться, с удивлением и добрым вниманием поглядеть друг на друга.
Что-то… С минуту назад казалось — ухватил, разгадал. И вот опять — что-то, опять загадка. Нет дна в искусстве. Что есть истина?
Федор размашисто зашагал к троллейбусной остановке. Он ожил, он не хочет походить на дядю Ваню!
Так и есть, как в воду глядел. Под аркой, загородив проход во двор, сгрудилась вся компания. Федор издалека пересчитал всех: восемь лбов, многовато — кепочки-«бобочки» натянуты на глаза, плечи расправлены, руки многозначительно сунуты в карманы. Лешка в центре, расставил ноги в отутюженных брючках, дымит заломленная папироса. Гитару, должно быть, оставил дома до времени, пока не придет пора славить свою победу.
Федор тоже сунул руку в карман, нащупал угловатый бюстик Наполеона, намотал на ладонь конец веревки, не спеша, вразвалочку, двинулся на Лешку. Пять шагов, четыре шага, три… Заломленная папироса, прищуренные глаза…
Федор бросился. Мальчишка, сунувшийся между ним и Лешкой, отлетел в сторону. Лешка с силой ударился спиной и затылком о стену проезда. Левая рука Федора схватила его за горло, мальчишески нежное, податливое. На крученой бечеве закачался, разворачиваясь, настороженно топорща острые углы треуголки, свинцовый Наполеон.
— Кто сунется — уложу! — предупредил Федор. — Ну, ты, щенок! Назад!
И паренек с крысиной веснушчатой физиономией нехотя отступил.
— А теперь слушай, — обратился Федор к Лешке. — Да руками не дергай, сопля! Пока ты перышко вытащишь из кармана — зоб вырву. И легко… Ты чуешь?.. — Стиснул легонько мягкую шею, глаза Лешки выкатились. — Слушай… Ежели твои мальчики хоть раз встанут на дороге — я изувечу тебя! Ежели хоть один из них пальцем тронет Виктора — я изувечу тебя! Только тебя, вошь! А ежели будете особенно надоедать — слышишь ты, кусок дерьма? — убью! Не таким, как ты, загривки ломал. Заруби себе на носу, я — фронтовик.
Мальчики стояли в стороне, держали руки в карманах, сердито топорщащийся Наполеон на веревочке вызывал у них уважение.
— Ты слышал?
— Пыс-сти, — прохрипел Лешка.
— Повтори, — Федор сильней сдавил шею.
Лешка захрипел, округлившиеся глаза лезли из глазниц.
— Ну?
— Чего л-ле…
— Ну?
— Н-не трогали же…
— Повтори, сукин сын, что я сказал!
— Не тронем… Ладно…
— Да ну, вот спасибо, одолжил.
— Ви… Виктора не… не тронем.
— Уже кое-что. А сейчас вынь правую руку. Давай, давай!.. Э-э, нет, не пустую. Вынь, что держал… Да быстро, сволочь! Задушу! — Лешкины глаза вот-вот брызнут на мостовую. — Вот так-то, малыш.
Федор отпустил Лешкино горло, отобрал финку, повертел ею перед его носом:
— На память возьму. Сам, наверное, точил, знаешь, какая она… А теперь держите своего героя, с ног валится, и штаны, должно, мокрые.
Он толкнул Лешку в кучу, пошел, не оборачиваясь, к подъезду, покачивая свинцовым Наполеоном.
На лестнице открутил веревку с ладони, сунул Наполеона в карман вместе с финкой. Если б так быстро можно было решать все осложнения в жизни!..
Вера Гавриловна шепотом сказала у дверей!
— У вас гость. Час, как ждет.
При появлении Федора у человека, сидящего в его комнате, соскользнула с колен рука, деревянно стукнула о стул. Он встал, и на фоне окна обрисовались косо поставленные плечи, одно выше другого.
— Валентин Вениаминович!
— Здравствуй, дружок.
Светло-бежевый отутюженный костюм, светлая шляпа на эскизе витрины, седые виски, ввалившиеся щеки, хрящеватый нос, теплящаяся улыбка в черных, узко посаженных глазах.
— Никак не ждал, конечно?
— Никак.
— Сядем. Есть разговор.
Уселся поудобнее на стуле, вытянул во всю комнату длинные ноги, закурил, пытливо поглядывая на Федора.
— Чем живешь? Начнем с этого.
— Коллекционирую произведения искусств.
— Гм… И где они?
— Ношу в кармане. Вот, например.
Федор вынул свинцового Наполеона, поставил на стол.
— А почему надета петля на шею этого произведения?
— Для удобства. Талисман. Ношу для счастья, на груди, ближе к сердцу.