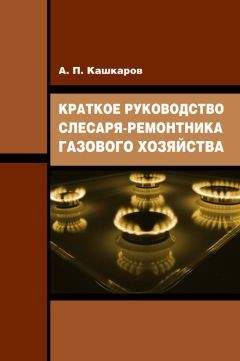Саночкин! Где-то что-то было у Лаптева связано с этой фамилией. Не с Митькой, а с фамилией его. Может быть, встречался еще один Саночкин? Нет, не вспомнить. Но фамилия навевает что-то хорошее и вроде бы не подходит к Митьке.
— Скажите, сколько вы имеете личного скота?
— Скота?
— Да, скота?
— Личного?
— Да, да, личного. Я же говорю достаточно громко и ясно.
Саночкин качнулся, устраиваясь поудобнее на стуле, и на Лаптева пахнуло винным перегаром.
— Сегодня спозаранку успели выпить или вчера?
— На какой вопрос отвечать? — усмехнулся он.
— На оба.
— Дернул сегодня стакашек, был такой грех.
— В пьяном виде сюда больше не являйтесь. — Лаптев уже жалел, что пригласил Саночкина: новый вопрос назрел — пьянство. — Ладно, идите и проспитесь…
— Так это я разве пьяный?.. Это я так… для аппетита, а скота у меня двадцать восемь голов. Коровьих, овечьих, свинячьих. Больших и маленьких. Курицы, гуси и утки не в счет. Я свою ферму — о! — как поставил.
Он поднял большой палец и хохотнул. Хохоток короткий, приглушенный, многозначительный.
— Сальцо у моих свиней трехслойное, так и тает во рту. Особливо, если после водочки. Заходите, угощу. Овечки тонкорунные. Не то, чтоб самой-самой высшей породы, но мерлушка хороша, на толкучке с руками готовы оторвать. А коровы мои доят столько, что на всех конторских и молока, и сметаны хватит. Попробуйте, найдите еще таких коров. В совхозе-то и ветврачей, и зоотехников полным-полно, науку всякую применяют, а скотина тощая — кожа да кости и все че-то дохнет от мудреных книжных болезней. А у меня за всю жизнь ни одна не болела и не подохла. Здоровешеньки. Вот такоть!
«Говорит будто нарочно, чтоб подзадеть…»
— Вы едете в город продавать мясо?
— Ну! Многие в город подаются. В городе наше новоселовское мясо в ходу.
«Черт знает что!.. А у совхоза одни убытки — больше ста тысяч рублей в год. Каждый живет сам по себе: свой скот, свои огороды, покосы, сады. Кадушки с груздями. Что тому же Саночкину зарплата. Лишь бы числиться на работе и пользоваться преимуществами совхозника».
Саночкин! Где он встречал эту фамилию?.. Зазвонил телефон, и Лаптев поднял трубку.
Ивана Ефимовича вызывали на заседание райисполкома.
2Много в биографии Лаптева было и нелегкого.
В дни, когда на Родине наступил мир и покой, на его долю выпали бои с фашистами. С запада тянулись в Россию эшелоны с веселыми фронтовиками; фронтовики возвращались домой, а навстречу им, без песен и музыки, спокойные и незаметные ехали в теплушках солдаты-чекисты. Ехали воевать. О тех боях газеты не сообщали, и солдаты умалчивали о них в письмах. Это были особые бои, когда не рвались снаряды, не падали с самолетов бомбы. Но денно и нощно тонко свистели пули. Чекисты вылавливали озверелых фашистов, которые по одному, а чаще мелкими группами в три-пять человек скрывались в лесах Прибалтики.
Осматривая однажды безлюдный хутор, в углу небольшого сарая Лаптев увидел кучку соломы. Он не успел поддеть штыком эту солому, как раздались два оглушительных выстрела и резко ударило его в бедро, а через полгода ранили еще, тяжелее. Он тогда шел в цепи, третьим слева, и пули, выпущенные фашистами, попали именно в него. Может быть, потому, что был он выше, приметнее других… Помнит только удар в грудь и больше ничего…
После демобилизации приехал к себе в деревню, устроился в МТС, худущий, постаревший. Будто давным-давно, как во сне, было все это: заочная учеба в институте, продвижение по службе… За работу в МТС Лаптев получил орден Ленина. Он издал брошюру об опыте механизаторов, на титульном листе которой стоял гриф: «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка».
Когда все вроде бы уже окончательно утряслось, наладилось, неожиданно нагрянула беда.
— Как вы могли до такой степени запустить свою болезнь? — удивлялся рентгенолог.
У Лаптева оказалась открытая форма туберкулеза, с кавернами в обоих легких. И гадкое чувство обреченности овладело им: он был уверен, что жизнь его уже кончена.
Этому, видимо, в немалой степени способствовало и то, что стал он пристально интересоваться туберкулезом, читать книжки о нем. А книжки были все старые, изданные в дедовские времена.
Но болезнь отступила. Ей на смену пришла другая беда.
Лаптев получил письмо от жены Брониславы, каждое слово которой било точно кувалдой:
«Ты уже выздоравливаешь, и моя помощь тебе скоро будет не нужна. Я тебя очень уважаю, но…»
Отшвырнул от себя исписанный мелкими буквами лист. Решила уйти — уйди, зачем выкручиваться… Его всегда коробило от ее мещанских слов: «Живем один раз», «Каждый лишь о себе думает»… И детей иметь не хотела. Эгоизм ее он поначалу принимал за легкомыслие, сам проявляя при этом легкомыслие. И опять можно так рассуждать: не могут же люди не ошибаться… Мир велик, и характеры в нем всякие. Все надеялся: дурное от нее со временем уйдет и останется только то, что природа отпустила ей, надо сказать, с избытком: трудолюбие, аккуратность. Умела вести хозяйство, чистоплотная и женственная была.
Лаптев не знает, где она теперь, и не жалеет, что они расстались. До сих пор дивится, как могла красавица Бронислава заинтересоваться им: природа-скульптор не очень-то утруждала себя, создавая его скуластое с впалыми щеками лицо. К тому же еще он неуклюже большой, костистый…
Лаптев не любил свою внешность и даже стыдился ее. Когда-то в молодости она приносила ему немало огорчений. Люди, однако, говорили, что его неказистость особого рода — не отталкивающая, наоборот, мягкая, добродушная, располагающая к себе, и, как сказала однажды Бронислава, — «у него умная улыбка»…
Лет пять после лечения Лаптев работал директором краеведческого музея в тихом, старинном, когда-то уездном, а ныне районном городке.
В музее он мог часами рассматривать, изучая старинные документы, всевозможные вещицы, которые у них называли сухим словом «экспонаты», и жалел, что директор, а не научный работник: у директора все же свои обязанности и заботы.
Ему виделось что-то общее между экспериментами в зоотехнике и научной работой в музее; тут и там неустанные поиски, тут и там сладко мучаешься от ожидания победы…
Странно, теперь все говорили о нем, как о вчерашнем работнике музея, и никто не вспоминал, что Лаптев был директором МТС. Да и нет в этом крае никого, кто знал Лаптева в расцвете сил, в ту давнюю пору, остался орден, ну еще грамоты и брошюра — немые свидетели былого.
У Лаптева цепкая зрительная память: он прочно запоминает лица, подписи, улицы. Само содержание текста может забыть, а на какой странице книги текст этот помещается, безошибочно найдет.
И он, рассчитывая на эту свою память, старался всех обойти, все до мелочей запомнить: ведь хозяйство, где предстоит ему работать, надо знать досконально.
В Травное Иван Ефимович прибыл под вечер. Сумерки были грустными, тихими, окна в домах еще не осветились. В центре села стояли полуразрушенная церковь и два кирпичных двухэтажных дома без дверей и крыш — одни старые-престарые грязные стены, облезлые, побитые, будто после бомбежки, угрожающе глядевшие на мир пустыми глазницами-окнами. Вокруг синеватый снег да скелеты высоких тополей.
Здесь когда-то был женский монастырь, кажется, самый древний за Уралом и, судя по документам, хранящимся в музее, очень богатый, хотя земли тут плохие и много болот. В Травном располагался монастырский центр, а Новоселово, где до революции стояло лишь несколько бревенчатых домов, окруженных трясинами, камышовыми озерами и буреломом, считалось ссыльным местом, где пребывали самые строптивые, непокорные монашенки.
«Какая келейная тишина, — думал Лаптев, озираясь по сторонам. — Даже настроение портится».
В конторе фермы сумерничали три женщины. Зажгли свечу, стоящую в стакане.
— Ну, что поделываете? — спросил Лаптев нарочито весело. — Я вижу, у вас тут совсем, как в монастыре.
— Да вот манны небесной ждем и света электрического. — Это сказала женщина лет тридцати пяти. Твердый упрямый лоб, большие умные глаза, смотревшие откровенно насмешливо.
От нее повеяло на Лаптева чем-то удивительно знакомым и мало приятным.
«Нет, я ее никогда не встречал».
Догадка пришла внезапно: у нее так же, как у директора Утюмова, разделен глубокой морщинкой подбородок, и когда она говорит, то так же, как он, странно напрягает верхнюю губу.
Позднее, уже в конторе совхоза, он узнал, что женщина — ее звали Татьяной Максимовной — приходится сестрой Утюмову, который не жалует ее за строптивый характер.
Татьяна работала свинаркой, заочно училась в сельскохозяйственном институте. Фамилия ее — Нарбутовских, по мужу.
— Ждете, значит? — спросил Лаптев, стараясь поддержать шутливый тон разговора.