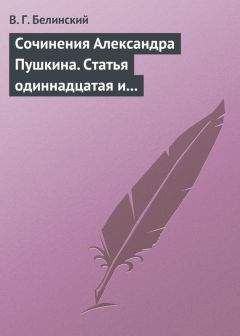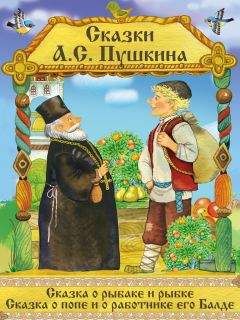Общее смятение. Князь велит конюшему отыскать мельничиху; ее, разумеется, не находят…
Прошло двенадцать лет. Княгиня жалуется на охлаждение к ней мужа; няня утешает ее, не подозревая, что в грубой и невежественной простоте ее добродушных слов скрывается ужасная, роковая истина:
Княгинюшка, мужчина, что петух:
Кури-куку! мах, мах крылом – и прочь,
А женщина – что бедная наседка:
Сиди себе да выводи цыплят.
Пока жених – уж он не насидится,
Ни пьет, ни ест, глядит – не наглядится.
Женился – и заботы настают:
То надобно соседей навестить.
То на охоту ехать с соколами.
То на войну нелегкая несет.
Туда, сюда – а дома не сидится.
Не есть ли это законная кара сильному полу за беззаконное рабство, в котором он держит слабый пол?.. Так, по крайней мере, можно думать по окончанию любовных похождений героя поэмы, этого русского дон-Хуана… Наскучив женою, он вспомнил о прежней любви, раскаялся, как в глупости, что бросил дочь мельника, не понимая, что она потому только стала ему мила, что ее нет с ним, что его жена уже не мила ему…
Сцена на берегу Днепра. Ночь. Раздается хор русалок, напоминающий своим фантастически-диким пафосом оргии Valse infernale[8] из «Роберта Дьявола».{16}
Веселей толпою
С глубокого дна
Мы ночью всплываем;
Нас греет луна.
Любо нам ночной порою
Дно речное покидать,
Любо вольной головою
Высь речную разрезать,
Подавать друг дружке голос.
Воздух звонкий раздражать
И зеленый, влажный волос
В нем сушить и отряхать.
Одна.
Тише! птичка под кустами
Встрепенулася во мгле.
Другая.
Между месяцем и нами
Кто-то ходит на земле.
Этот «кто-то» – князь, которого влекут к этим местам воспоминания прежней счастливой любви. Вдруг он встречается с отцом погубленной им девушки.
Старик.
Здорово,
Здорово, зять!
Князь.
Возможно ль? это мельник!..
. . . . . . .
Старик.
Какой я мельник, говорят тебе,
Я ворон, а не мельник. Чудный случай:
Когда (ты помнишь?) бросилась она
В реку, я побежал за нею следом
И с той скалы спрыгнуть хотел, да вдруг{17}
Почувствовал: два сильные крыла
Мне выросли внезапно из-под мышек
И в воздухе сдержали. С той поры
То здесь, то там летаю, то клюю
Корову мертвую, то на могиле
Сижу да каркаю.
Отосланная князем свита является опять к нему, по приказанию обеспокоенной княгини. Это внимание со стороны уже нелюбимой им жены раздражает его, и досада его изливается обыкновенным в таких случаях восклицанием, одним и тем же с тех пор, как стоит мир, как существуют в нем охладелые любовники и постоянные любовницы, и наоборот:
Несносна
Ее заботливость! Иль я ребенок.
Что шагу мне нельзя ступить без няньки?{18}
Опять раздается фантастически-вакханальный хор русалок:
Что, сестрицы: в поле чистом
Не догнать ли их скорей?
Писком, хохотом и свистом
Не пугнуть ли их коней?
Поздно. Волны охладели,
Петухи вдали пропели,
Высь небесная темна,
Закатилася луна.
Одна.
Подождем еще, сестрица.
Другая.
Нет, пора, пора, пора!
Ожидает нас царица.
Наша строгая сестра…
В последней сцене князь встречается с своею дочерью-русалкою, которая послана матерью уловить его… Как жаль, что эта пьеса не кончена! Хотя ее конец и понятен; князь должен погибнуть, увлеченный русалками на дно Днепра. Но какими бы фантастическими красками, какими бы дивными образами все это было сказано у Пушкина – и все это погибло для нас!
«Русалка» в особенности обнаруживает необыкновенную зрелость таланта Пушкина: великий талант только в эпоху полного своего развития может в фантастической сказке высказать столько общечеловеческого, действительного, реального, что, читая ее, думаешь читать совсем не сказку, а высокую трагедию.
Теперь мы приблизились к перлу созданий Пушкина, к богатейшему, роскошнейшему алмазу в его поэтическом венке… Для кого существует искусство как искусство, в его идеале, в его отвлеченной сущности, для того «Каменный гость» не может не казаться, без всякого сравнения, лучшим и высшим в художественном отношении созданием Пушкина.{19} Какая дивная гармония между идеею и формою, какой стих, прозрачный, мягкий и упругий, как волна, благозвучный, как музыка! какая кисть, широкая, смелая, как будто небрежная! какая антично-благородная простота стиля! какие роскошные картины волшебной страны, где ночь лимоном и лавром пахнет!.. Принимаясь перечитывать это чудное создание искусства, восклицаешь мысленно к поэту:
Благословенный край, пленительный предел!
Там лавры зыблются, там апельсины зреют…
О, расскажи ж ты нам, как жены там умеют{20}
С любовью набожность умильно сочетать,
Из-под мантильи знак условный подавать;
Скажи, как падает письмо из-за решетки,
Как златом усыплен надзор ревнивой тетки;
Скажи, как в двадцать лет любовник, под окном.
Трепещет и кипит, окутанный плащом…
Такая тема не может пользоваться популярностью. Ее можно или понять глубоко, или вовсе не понять. Для непонимающих она не имеет ровно никакой цены, для понимающих невозможно любить ее без страсти, без энтузиазма. Но первых много, последних мало, и потому она существует для немногих.
Герой ее – лицо мифическое, испанский Фауст. Идея дон-Хуана могла родиться только в стране, где жить – значит любить и драться, а быть счастливым и великим – значит быть любимым и храбрым, в стране, где религиозность доходит до фанатизма, храбрость до жестокости, любовь до исступления, где романическая настроенность делает героем и кавалера, и разбойника. Но дон-Хуан, такой, каким является он у Пушкина, не исступленный любовник, не мрачный дуэлист: он одарен всем, чтоб сводить с ума женщин и не знать никаких препятствий удовлетворению своих желаний. Красавец собою, стройный, ловкий, он весел и остер, искренен и лжив, страстен и холоден, умен и повеса, красноречив и дерзок, храбр, смел, отважен. Как во всякой высшей натуре, в нем есть что-то импонирующее. Может быть, это сила его воли, широкость и глубина его души. Для него жить – значит наслаждаться; но среди своих побед он сейчас готов умереть; умертвить же соперника в честном бою и насладиться любовью в присутствии трупа – ему ровно ничего не значит. Он верит в свою звезду и потому на всякого, кто вызовет его, смотрит заранее, как на убитого. Такие люди опасны для женщин и не знают, что такое неуспех в любви или волокитстве. Женщина больше всего обожает в мужчине силу, мужественность, могущество. Она любит, чтоб он был с ней не только нежен, но и дерзок. Дон-Хуан имеет в себе все это. В глазах женщины он лев между мужчинами не в новейшем пошлом значении этого слова, означающего франта и модника, а в смысле превосходства, храбрости и мужества.
Дон-Хуан является ночью в Мадрите. Из его разговора с слугою мы узнаем, что он был в ссылке за дуэль и воротился тайком. Он спрашивает у Лепорелло, могут ли узнать его?
Да, дон-Хуана мудрено признать!
Таких, как он, такая бездна!
Из этой грубой похвалы слуги видно ясно, что такое дон-Хуан для всего Мадрита. Место, в котором они находились в то время, напоминает дон-Хуану женщину, которую он, кажется, любил больше других, – и он говорит задумчиво:
Бедная Инеза!
Ее уж нет! Как я любил ее!
. . . . . . .
Чудную приятность
Я находил в ее печальном взоре
И помертвелых губках. Это странно:
Ты, кажется, её не находил
Красавицей. И точно, мало было
В ней истинно прекрасного. Глаза,
Одни глаза, да взгляд… такого взгляда
Уж никогда я не встречал. А голос
У ней был тих и слаб, как у больной;
А муж ее был негодяй суровый —
Узнал я поздно… Бедная Инеза!
В этих немногих стихах целый портрет женщины, вся история ее жизни… Самое воспоминание о ней, столь полное любви и грусти, уже говорит, какова должна была быть эта женщина, которая, не будучи красавицей, умела привязать к себе такого человека. Но грусть воспоминания не долго занимает дон-Хуана.
Лепорелло.
Что ж? Вслед за ней другие были.
Лепорелло.
А живы будем, будут и другие.
На этот раз он хочет итти к Лауре. Но является монах, и от него наши авантюристы узнают, что на монастырское кладбище сейчас должна притти донья-Анна, чтоб плакать на могиле своего мужа, убитого нашим героем. Дон-Хуан успел заметить только ее узенькую ножку; но этого довольно для него, чтоб решиться узнать ее покороче; а пока он спешит к Лауре.