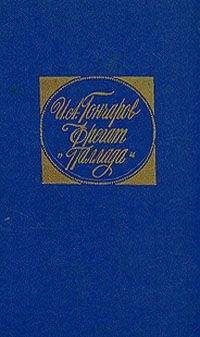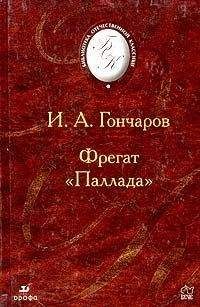Мышь как образ подвижного единства универсума внутри мелькающих точек-мгновений уже очень близка к Введенскому.
Поэты до Хайдеггера знали, что в глубине времени таится взгляд («миг, мгновение» – нем. Augenblick; франц. clind’oeil). Сам язык актуализировал связь времени и видения. Это имеет соответствие и в русском языке: миг и мигание – однокоренные слова, укорененные в некоем едином представлении[65]. Следующий шаг – это когда бегающие глаза актуализируют метафору «глаза-мыши». Классический пример – гоголевский Плюшкин: «…Маленькие глазки еще не потухли и бегали из-под высоко выросших бровей, как мыши, когда, высунувши из темных нор остренькие морды, насторожа уши и моргая усом, они высматривают, не затаился ли где кот или шалун мальчишка, и нюхают подозрительно самый воздух» (V, 115-116). В «Петербурге» Андрея Белого, уже с явной оглядкой на волошинскую статью: «…Аполлон Аполлонович, будто вспомнивши что-то, засуетился, заерзал; беспокойно глазами забегал он, напоминая серую мышь»[66]. Таким образом, поэты и до Введенского знали, что из глубины времени выглядывает мышь.
Превращение мира в мерцающую мышь подготовлено литературной традицией. Вот два в высшей степени характерных примера. Первый – из «Предисловия» к «Козлиной песни» К. Вагинова: «Петербург окрашен для меня с некоторых пор в зеленоватый цвет, мерцающий и мигающий, цвет ужасный, фосфорический. И на домах, и на лицах, и в душах дрожит зеленоватый огонек, ехидный и подхихикивающий, Мигнет огонек – и не Петр Петрович перед тобой, а липкий гад; взметнется огонек – и ты сам хуже гада…»[67]. Вагинов описывает фантастический мир Петербурга как мерцающую структуру и задает это мерцание-мигание как условие его превращения в животное. В «Петербурге» Белого этот мир уже превращен в мышь, хотя прямо мышью не назван: «Незнакомец с черными усиками из окошка посмотрел на пространство Невы; взвесилась там бледно-серая гнилость: там был край земли и там был конец бесконечности; там, сквозь серость и гнилость уже что-то шептал ядовитый октябрь ‹…›; в трубах слышалась сладкая пискотня ветра, а сеть черных труб, издалека-далека, посылала под небо свой дым. И дым падал хвостами над темно-цветными водами»[68]. Жутковатый пейзаж откровенно описывается через образ мыши, однако прямая номинация отсутствует. Последний шаг «прямого» называния и делает Введенский.
У Волошина мышь перестает быть знаком убегающего мгновения и становится символом какой-то особой мгновенной вечности, божественным модулем времени. И это сопоставимо с образом Введенского, ибо мерцание мыши – это уже ритм самого бытия. Из зрительного восприятия мерцание переводится в иной режим – режим существования. Из того, что видно, оно превращается в то, что есть. Это невидимое в видимом. Оно дано в акте видения, но само увидено быть не может, так как превышает разрешающую способность и размерность нашего опыта. Мы не в состоянии представить себе мир как мерцающую мышь, это невозможно, но это есть. Введенский признавался: «Раньше думал я о мире, / о мерцании светил» (I, 178). Очевидно, что возвращение к традиционалистскому и вполне определенному «мерцанию светил» привело бы к полной деструкции обэриутской метафоры, удерживающей в какой-то специфической форме видение мира. «Подставьте под слово “мерцание”, – говорит Мамардашвили, – наше участие в предмете». То есть подставьте под слово «мерцание» участие поэта в (со)творении мира. Хлебниковская формула очень точно отражает это участие: «Мир как стихотворение» (V, 259).
И здесь, при всей деликатности предмета, мы решительно расходимся с интерпретацией В.А. Подороги[69]. Во-первых, как и полагается постмодернисту, он уверен, что обэриутская поэтика не знает идеи целого, и поэтический мир существует только в качестве индивидуализированных и неназываемых частей, не сводимых в единое целое; во-вторых, единственный закон, по которому соединяются части и частицы этого мира, – это закон «слипания» («они слипаются друг с другом, но не смешиваются»)[70].
Мандельштам в «Письме о русской поэзии» в блестящее время парижских, брюссельских, нижегородских и прочих всемирных выставок замечал, что грандиозные создания русского символизма, будь то Бальмонт, Брюсов или Андрей Белый, как будто специально построены для каких-то всемирных выставок. Грянул конец, и вот-вот приедут их разбирать. По сути, они уже разобраны. Такова и участь Подороги, невзирая на то, что книжки все толще, а манеры все барственней.
Введенский – не свифтовский мудрец с мешком вещей. Мы имеем дело, конечно, не с номинативной, а с феноменологической редукцией, подвешиванием мира внутри языка и его средствами. Результатом этого является то, что Мамардашвили называл держанием мира в слове и через слово. Обэриутам безусловно созвучна идея хлебниковской Азбуки, где «М» означает расчленение целого на части, бесконечное деление и дробление его. Но это только азбучный элемент, а не речевое целое, но как азбучный элемент он содержит в себе все целое (всю азбуку). Единство смысла не устранимо из стихотворного целого[71].
Невозможный образ Введенского значительно ближе не к домашнему культу мыши Ходасевича или мышеловкам Хлебникова, а – как это ни странно – к мандельштамовской лошади. Речь идет о беге коня в стихотворении «Нашедший подкову» (1925):
Конь лежит в пыли и храпит в мыле,
Но крутой поворот его шеи
Еще сохраняет воспоминание о беге с разбросанными ногами, –
Когда их было не четыре,
А по числу камней дороги,
Обновляемых в четыре смены,
По числу отталкиваний от земли
Пышущего жаром иноходца.
Так
Нашедший подкову
Сдувает с нее пыль
И растирает ее шерстью, пока она не заблестит;
Тогда
Он вешает ее на пороге…
(II, 44)
Дробящийся, точечный бег времени «собирается» у Введенского в образе мерцающей мыши, то есть единой пульсирующей структуры. Мандельштам проделывает как бы прямо противоположную процедуру. Статичный, почти статуарный образ коня дробится в своем движении до почти уже неразличимого мелькания бесчисленных копыт. У Хармса есть такие строки:
И все на свете мной забыто –
и время конь,
и каждое мгновение копыто
[72].
Подкова – отпечаток мгновения-копыта, гулкий отзыв вечности, свернувшейся теплым счастливым калачиком в руках ее обладателя. Подкова – своеобразный аналог мировой мыши Введенского. Сияющая подкова – не торжествующий талисман верной удачи, он снят с загнанной, умирающей лошади и повешен на пороге. Но только так находят подкову.
У Мандельштама движение лошади, как в кинетоскопе. Поэтому, замыкая рассуждение, приведем пример из Пруста, где работа памяти сравнивается с бегом лошади в кинетоскопе. Это самое начало «В сторону Свана»: «Эти клочки воспоминаний, кружащиеся и смутные, никогда не длились больше нескольких секунд; часто моя кратковременная неуверенность в месте, где я находился, отличала друг от друга различные предположения, из которых она состояла, не лучше, чем мы обособляем, видя бегущую лошадь, последовательные положения, которые нам показывает кинетоскоп»[73].
ЭТЮД В ИСПАНСКИХ ТОНАХ
Клаудии Блум
И верная подруга
Бросается в траву.
Разрезала подпругу,
Вонзила нож врагу.
Разрежет жилы коням,
Хохочет и смеется.
То жалом сзади гонит,
В траву, как сон, прольется.
Велимир Хлебников. «Скифское»
Элементарна? Устарела?
Сладка? опошлена? бледна?
Но раз душа на ней горела,
Она душе моей родна!
Игорь Северянин. «Дюма и Верди»
А у меня в подъязычьи
Что-то сыплет горохом,
Так что легкие зычно
Лаем взрываются в хохот…
Слушай, брось, да полно!
Но ни черта не сделать:
Смех золотой, спелый,
Сытный такой да полный.
Илья Сельвинский. «Юность»
Речь пойдет только о способе чтения, и о том, что будет извлекаться из очень несхожих текстов – поэтических и прозаических, написанных в разном жанре, языке и времени. Общее – невидимый смех.
На испанском писателе уже давно болтается товарный ярлык «Умберто Эко для бедных». Эко – это книга для интеллектуалов, Артуро Перес-Реверте – газета, массовое чтиво, лекарство от скуки. Вообще-то такое распределение ценностных критериев ничуть не зазорно, так как располагает ко множеству вариативных толкований.
Мандельштам, например, вспоминал: «Один из моих друзей, человек высокомерный, не без основания говорил: “Есть люди-книги и люди-газеты”». И что вышло из этой «высокомерной» констатации Николая Гумилева? Сам он был подвергнут «высшей мере», а Мандельштам, когда пришел его черед платить, распорядился этой типологией весьма своеобразно. Человеком-книгой стал Сталин – кумир и истукан, жнец, коего в страхе и слепоте почитает народ-Гомер, а человеком-газетой – Христос, навсегда оставшийся свежей новостью, благой вестью свободы, игры и духовного веселья. Что пребывает в полном согласии с инвективой (тоже вовсе не примерного примиренца) Пастернака в «Высокой болезни»: