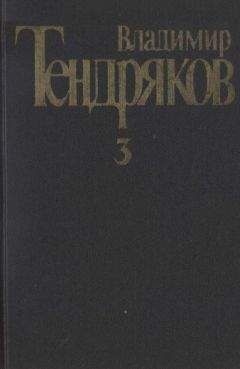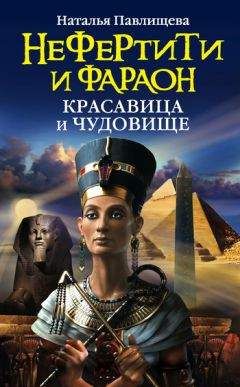В старой сумрачной столовой, законсервировавшей воздух прошлого века, среди кресел, на которых отдыхали бородатые интеллигенты, современники Толстого и Чехова, в стенах, отгороженных от мира и времени, — военная степь, сырой ветер, запах гари, солдат в каске. Здесь картина выглядела словно современный экскаватор среди стада мамонтов.
Если б Федора спросили: как выгодней повесить работу? — ответил бы: в такой вот комнате, тут она громогласнее.
Раздался звонок. Федор оторвался, пошел открывать.
— Как живете-можете?
Явился давно не заглядывавший Антон Иванович, переносье над дряблой репкой-носом морщится в улыбочке.
— Ты иди глянь, что я сделал, — пригласил его Федор.
Старик шагнул в столовую и остановился.
— Ишь ты! — Постоял и сообщил: — Будто в лоб ударило.
Ольга Дмитриевна, до сих пор лишь мельком бросавшая взгляд на работы Федора, долго всматривалась.
— Вы, однако, умеете доказать свою правоту, — сказала она.
Федор и Оля остались вдвоем. Оля молчала. Молчал и Федор.
Из всего сложного и запутанного, что он ощущал, самое сильное, торжествующее надо всем было чувство облегчения — гора с плеч! Он, в который уже раз в жизни, вышел победителем, как он выходил победителем в поединке с тем неизвестным, невиданным, что обстреливал склон, ведущий к колодцу, как выбрался живым при переправе через Дон, как осилил первый натюрморт — бутылку с лимонами.
Наконец Оля произнесла:
— Я начинаю бояться тебя, Федор.
— Оля… Я хочу…
Оля насторожилась.
— Оля, раньше не решался, но мне сегодня все доступно… Оля, хочу ни мало ни много, чтобы ты жила со мной всегда. Без тебя мне трудно, без тебя невозможно… Оля, не показывай, что это для тебя новость! Ты догадывалась!
Оля сжимала круглыми коленями кисти рук.
— Странно, — произнесла она. — Если б ты мне сказал это раньше, я бы больше обрадовалась.
— Когда — раньше?
— Даже тогда, когда ты ходил несчастным… Сейчас я почему-то боюсь тебя.
— Оля, я не отступлю!
— И не надо. Я тоже люблю тебя. Но сейчас у меня какой-то страх перед тобой. Все думается: достойна ли я тебя?
— Достойна?.. Я просто не могу без тебя. Не веришь? Или мне броситься на колени, произносить клятвы?
Оля помолчала и тихо проговорила:
— Наверно, мне будет очень трудно с тобой.
— Я все сделаю, чтоб тебе было легко!
— Зачем? Пусть будет трудно. Чем-то я должна платить за то, что ты со мною рядом… Боюсь другого — как бы со временем не перешагнул через меня и не ушел… А трудно — пусть… согласна.
Он притянул ее к себе, и она покорно подалась, на минуту замерла в его руках, затем отстранилась несмело и ласково:
— Мама может войти.
21
Федор навестил Вячеслава. Ему-то он должен был сообщить о победе.
У Вече в мастерской стоял эскиз: солнечный, нарядно белый город, по улице — мазутный поток рабочих. И в этом мазутном потоке легким, сияющим лебедем застряла пролетка с дамами в летних платьях. Они сжались от страха, они затравленно глядят на слитную толпу люден, выползших из нищих окраин сюда, в их солнечное, белокаменное царство.
Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас грозно гнетут…
Вече в студенческой комнате пел это под гитару. Теперь, видать, пришла пора пропеть то же самое другим голосом. В эскизе было то, чего не хватало его первой картине, — есть незримый герой, он пугает. Над мазутной толпой, в прозрачном воздухе летнего дня, среди сияющих стен города одна грозная сила схлестнулась с другой — классовая ненависть, классовая вражда! Сжимаются от ужаса барыньки в пролетке…
Вячеслав показал Федору и другой эскиз, карандашный, — «Победитель». Кончился бой, стоят разбитые баррикады, лежит, разметавшись на булыжной мостовой, рабочий парень… А над ним солдатик, из заморенных, забитая серая скотинка в пузырящейся шинели. Ванька — убийца из лапотной деревни. Победитель не испытывает радости, он только с тупым удивлением разглядывает поверженного врага — почему тот полез на рожон? Ему непонятно, ему недоступно — почему?..
Федор ушел от Вячеслава с ощущением — что-то копится в жизни. Если такие работы повесить на выставке, то открыточные холсты Ивана Мыша, помпезные портреты человека в сапогах и с трубкой придется поспешно снимать со стен. Что-то копится, когда-то прорвется… И он рано осудил Вячеслава.
Возвращался домой поздно, по сквозь запушенные инеем кусты светилось окошко — его ждали.
Тебе почти тридцать лет, половина жизни, считай, прожита, но только в далеком детстве ты имел дом, тебя ждали, за тебя волновались. Тридцать лет!.. Жил в землянках и окопах, потом временное пристанище — комната студенческого общежития, потом угол среди чужих людей… Пусть у тебя много верных товарищей, армия знакомых, по если нет дома, если нет окошка, светящегося обжитым теплом, за которым тебя с тревогой ждут родные, — все равно ты себя будешь чувствовать Робинзоном Крузо среди людей.
Теплится окно сквозь распушенные кусты, тебя ждут, не ложатся спать.
Его ждали, и не только Оля, не только ее мать. В комнате сидела гостья.
Она повернула голову, взглянула из-под приспущенных век:
— Здравствуй, Федя.
Нина Худякова в обтягивающем полнеющую талию платье, новая прическа — волосы накручены чалмой.
Федор перевел глаза на Олю. Она сейчас была очень похожа на свою — мать — то же замкнуто-суровое выражение, бледный лоб оттеняет брови, взгляд навстречу тягучий, вбирающий. Ольга Дмитриевна сидела с опущенными к столу глазами, по лицу ничего не прочтешь — холодно и спокойно.
У Нины вид, словно собралась на праздник — наряжалась, возилась с прической, пудрилась, охорашивалась, — а праздник вдруг отменили, хоть плачь, куда себя деть теперь?
Оля глядит по-чужому, испытующе, Ольга Дмитриевна прячет глаза.
Федор в растерянности переминался у порога.
— Вот решила навестить, — произнесла Нина виновато. — Как-никак институтский товарищ, шесть лет знакомы…
Но хитрость не удалась — товарищ, и только-то… Оля порозовела и отвела взгляд от Федора.
— Нина Николаевна нам весь вечер говорила о тебе, — сказала Оля в сторону. — О том, как ты удивлял всех талантом.
— Видела твою картину! — подхватила Нина. — Ты среди нас — великанище.
— Ну, спасибо, — выдавил из себя Федор.
Про себя подумал: «Время-то позднее, не останется же она здесь на ночь».
Оля решительно поднялась с места:
— Не станем вам мешать. Мама, пойдем.
Но Нина тоже встала:
— Нет, нет, уже поздно. Мне пора ехать.
— Я провожу тебя, — почти благодарно сказал Федор.
Обвеяв комнату волной духов, Нина с высоко поднятой головой, статная, медлительная, с опущенными долу ресницами поплыла в прихожую, обронив с достоинством:
— До свидания. Прошу извинить за беспокойство.
Они молча вышли за калитку. Горело окно сквозь снежный сад. И Нина, вздохнув, заговорила:
— Ко мне частенько на огонек заглядывает Авдиев… Ты его не знаешь?.. Он артист, в кино снимается, одевается сногсшибательно… — И вдруг привалилась к плечу Федора, всхлипнула: — Федя, я все вру… Всю жизнь вру сама себе… Федя, все ждала, что ты в дверь позвонишь…
А сбоку через пустой заснеженный сад, на пустую темную улицу светило окно…
Нина ткнулась Федору в плечо, он придерживал ее за плечи, не отстранял и не приближал к себе.
В сукно пальто, под воротник — глухой шепот:
— У меня ни матери… Да и отца тоже, считай, нет… Был ты один во всем свете…
Она не раз спасала его от невылазного одиночества когда в густонаселенном городе, на тесных улицах чувствуешь себя забытым всеми Робинзоном. Не раз, ощущая пустоту вокруг, он переступал ее порог. И кому, как не ему, понять — худо человеку быть едину.
Но из-за отяжелевших от выпавшего снега кустов светит зовуще окно…
Не пинай лежачего. Ты не способен на это.
Но в окне свет. Тебя ждут, быть может, нетерпеливее, чем всегда.
Отвернись, забудь про окно.
Забудь?.. А забыть нельзя, от него можно уйти, а помнить будешь — есть, горит, зовет.
Будешь помнить всю жизнь и проклинать того, кто оторвал тебя.
Нина уткнулась в плечо и плачет.
Минута доброты, а потом целая жизнь ненависти!
Руки Федора лежали на ее плечах, и Федор боялся погладить, боялся сказать ласковое слово, оно может быть принято за обещание. И светило окно, и корчилась душа от презрения к себе. Но чем помочь? Что он может?.. Только оскорбительно солгать, запутать себя и ее новой ложью.
Нина, так и не дождавшись ответа, вытирая слезы, безнадежно сказала:
— Надо идти.
И они пошли бок о бок, как часто ходили ночами по городу.