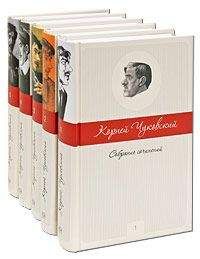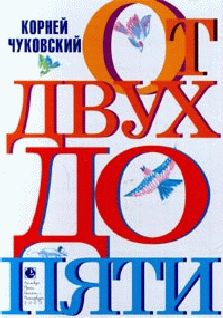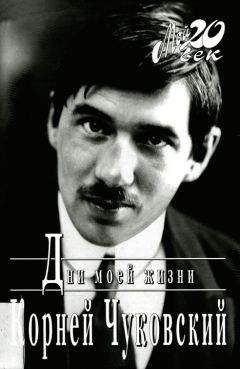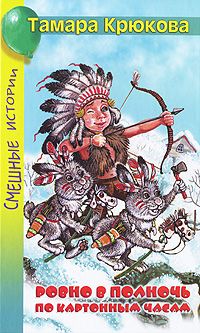Неспособный к отвлеченному мышлению, к каким бы то ни было категориям, формулам, схемам, он естественно оказался непригоден к наукам, имеющим дело с абстракциями. Можно ли сомневаться, что, например, к математике у него не нашлось никаких дарований? Когда он учился азбуке, он картинно представлял себе каждую букву в виде какой-нибудь твари: буква З — червяк, буква Г — рабочий его деда, и проч. Замечательный мастер живой, живокровной речи, он все же с величайшим трудом — даже в зрелых годах — усваивал себе ее грамматику, так как грамматика стремилась свести эту речь к отвлеченным категориям и формулам, а он был весь в конкретном ощущении словесных образов, красок и звонов[14].
Поэтому ничего не знают о Горьком те, кто ощущает его, как мыслителя.
Его творчество инстинктивно. Его сила — в богатом неукротимом цветении образов. Он, как и всякий художник, не всегда понимает те образы, которые в таком изобилии рождает его буйный декоративный талант. Распределять их по рубрикам, подчинять их системе — ему не под силу.
Тем поразительнее проявляемая им в течение всей его жизни упрямая воля к подчинению своих поэтических сил чисто логическим формулам. Иначе он и не желал творить. Ему всегда было нужно, чтобы образы явились иллюстрациями тех или иных его формул. Главное — формула, а образам — чисто служебная роль. Но художественные образы на служебную роль были согласны далеко не всегда. Порою они птицами вырывались из всяких насильственных формул, и часто случалось с Горьким, что, как мыслитель, говорил он одно, а как художник — другое. Нет, кажется, второго такого писателя, у которого творчество было бы в таком разладе с сознанием. В каждой его книге — две души, одна подлинная, другая придуманная. До сих пор мы изучали его как публициста, но стоит только вдуматься в него как в художника, и мы увидим, что перед нами другой человек, нисколько не похожий на того, которого мы знали до сих пор. Художникам нередко случается прославлять в своем творчестве то, что они сознанием отвергают. Некогда Роберт Стивенсон написал статью о разбойнике-поэте Виллоне, где жестоко расправился с этим вдохновенным злодеем. А потом написал о том же Виллоне рассказ, где окружил Виллона ореолом[15]. Неужели Горький и сам не видит, что, поскольку его искусство ускользает от его публицистики, оно склонно на каждом шагу разрушать эту публицистику и блистательно опровергать все те навязчивые мысли о Востоке и Западе, о деревне и городе, о труде и неделании, которые Горький высказывает с таким постоянством?
Сам Горький приводит нам прекрасный пример такого раздвоения личности в своей книге о Льве Толстом.
Книга эта вышла в 1919 году, в издательстве З. Гржебина. Называется — «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом». Эти воспоминания самое смелое, правдивое, поэтичное, нежное, что сказано до сих пор о Толстом. Горький всегда жаждал «радоваться о человеке», умиляться красотою души человеческой, но это редко удавалось ему, так как эта радость тонула в вычурных, никого не заражающих фразах. А «Воспоминания о Толстом» заразительны. Горький не только демонстрирует радость, но и нас зажигает ею, — мы по-новому начинаем восхищаться Толстым, «человеком всего человечества». Он говорит о Толстом много злого и жестокого, но все это тает в молитвенной, благодарной любви. Эта книга научает любить человека, но не подобострастной, не рабьей любовью; Горький судит Толстого сурово и требовательно, он ненавидит в нем то, что самому Толстому было дороже всего — и, несмотря на это, благоговеет до слез.
Все жесткие и злые слова, которые есть в этой книге, относятся к толстовству Льва Толстого. Боготворя Толстого, Горький ненавидит толстовство. Оно кажется ему фальшивым, надуманным, враждебным тому жизнелюбцу-язычнику, каким на самом деле был Толстой. В русской литературе эта мысль о том, что Толстой жил во вражде с собою, — мысль не новая, но Горький выразил ее по-новому, в образах, ярко и громко. Не потому ли он ощутил ее с такой чрезвычайной силою, что и сам он тоже человек двойной, что рядом с его живописью вся его проповедь тоже кажется надуманной фальшью, что в нем, как и в Толстом, две души, одна — тайная, другая — для всех, и одна отрицает другую? Первая глубоко запрятана, а вторая на виду у всех, сам Горький охотно демонстрирует ее на каждом шагу.
С этой-то тайной душой нам теперь и надлежит познакомиться.
Для этого мы должны взять любую книгу Горького и, отрешив ее от тех нарочитых тенденций, которыми ее окрашивает автор, вникнуть в ее подлинные краски и образы.
Всмотримся, например, в сборник рассказов, который носит имя «Ералаш». Сборник вышел в 1908 году, и рассказы, помещенные там, относятся к той поре, когда Горький работал в пекарне, торговал баварским квасом, бродяжил, влюблялся, стрелялся, служил на железной дороге.
Первое, что бросается в этой книге в глаза, — необычайная ее пестрота. Она такая пестрая, что больно смотреть. Множество красок, и все ослепительные.
Про какую-то девушку в ней говорится:
— Дуня пестрая, как маляр...
И про каких-то баб:
— Молодухи пестрые, точно пряники...
И про какую-то женщину:
— Пестро одетая женщина... одетая пестрыми тряпками...
У этой женщины даже физиономия пестрая — «сборная, из нескольких кусков». А у какой-то другой — «лицо размалевано самыми яркими красками».
И третья:
— На ней красная кофточка, зеленый галстух с рыжими подковами, юбка цвета бордо... бантики оранжевого цвета.
Такова вся книга, таковы в ней люди и вещи. Даже мысли у этих людей разноцветные:
«Разноцветно, разнозвучно играют умы».
В этой пестроте все очарование книги. Недаром ее имя — «Ералаш». В ней и в самом деле ералашная путаница ослепительных пятен, доведенных до предельной яркости. У героев не розовые, а кумачные лица; о небе говорится: очень синее.
И какое множество в этой маленькой книжке людей! — они-то ее и пестрят. Что ни страница, то новые. Горький не любит (или не умеет) слишком долго останавливаться на каком-нибудь одном человеке. Ему нужна пестрая вереница людей; ему нужно, чтобы эта вереница быстро текла по книге красно-сине-зеленой рекой, и, когда прочтешь его последние повести («Исповедь», «Кожемякин», «Детство», «По Руси», «В людях», «Ералаш», «Мои университеты») — покажется, что ты долго смотрел на какую-то неистощимую процессию людей, яркую до рези в глазах. Горькому словно надоедает писать об одном человеке, он жаждет пестроты, толчеи, ералаша. Он моменталист-портретист: изобразить во мгновение ока чье-нибудь мелькнувшее лицо удается ему превосходно. Это его специальность. Но изобразит — и готово. Через несколько строк — Долой. Проходи, не задерживай! В одной «Исповеди» столько намалевано лиц, что другому романисту, например Гончарову, хватило бы на двенадцать томов. Интересно бы сделать перепись в этой густонаселенной стране — в книгах Горького, — сколько людей там приходится на каждый квадратный вершок? Горький с каким-то все возрастающим сладострастием тянется к этой ярмарочной, буйной, азиатской, ералашной пестроте. Смотрит на нее ненасытно, и, сколько малявинских красок ни брызгает к себе на страницы, все кажется ему мало. Я вчитываюсь хотя бы в первый рассказ этой книжки, который так и называется «Ералаш». Ослепительно сверкают там апрельские лужи, празднично горит церковный крест. Вот рыжебородый татарин, вот пёстрая, очень пёстрая женщина: в синем жакете, в желто-зеленой юбке, в пунцовом платке. Но для Горького эти краски — не краски. Ему хочется бешеной яркости, и вот перед нами под огненным солнцем, по черному бархату степи, тянется крестный ход, золотой, малиновый, оранжевый, сверкают хоругви и ризы священников, и над мохнатыми головами людей, «сверкает, ослепляя, квадратный кусок золота, весь облеплен солнцем». Яркий ситец, золото, кумач — татарская, византийская Русь!
И какие пёстрые ералашные звуки: хохот, песни, звоны, прибаутки, зазывания и божба торгашей.
И какие ералашные события: тут мертвец, а там целуются, тут торгуют, а там замышляют убийство.
Хмельно, горласто, празднично,
Пестро, красно кругом!
И все это в чаду сладострастия, ибо рядом со зрителем (а, значит, и рядом с читателем) сидит румяная, сытая, полнокровная, полногрудая женщина, которую томит весенний хмель, которая млеет на солнце, как полено на костре. Она источает какой-то пьяный угар, от которого этот кавардак головокружительных образов становится еще ералашнее.
Вообще в каждой новой книге Горького столько хмеля и мартовской яри, как ни в одной предыдущей, и замечательно, что чем ералашнее этот ералаш, чем он пестрее, тем он милее и понятнее Горькому. Закружившись в этой ярмарочной сутолоке, Горький чувствует себя как дома, тут ему легко и уютно, он забывает все свои угрюмые мысли об азиатской дрянности русских людей и говорит свое благодушное широкое слово: