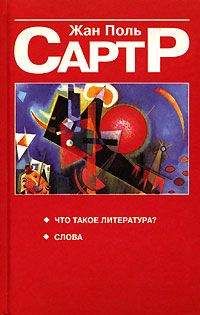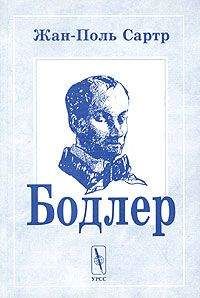Здесь искусство можно считать актом приношения дара, и один этот дар уже обеспечивает метаморфозу. Происходит нечто похожее на передачу титула и властных полномочий при матронимате, когда мать сама не является носителем имени, но остается обязательной посредницей между дядей и племянником. Если я на лету схватил иллюзию, если вручаю ее другим, освободив и передумав заново, они могут принять дар с полным доверием – иллюзия сделалась интенциональной. Автор, конечно, остается на границе субъективного и объективного и не в состоянии оценить объективный порядок дара.
Наоборот, читатель обретает все большую безопасность. Как бы далеко он ни забрался, автор проделал еще больший путь дальше. Как бы ни соотнес он между собой элементы книг – главы, страницы, слова – у него есть гарантия, что они были написаны и расположены автором определенным образом. Он даже может внушить себе, подобно Декарту, будто есть скрытый порядок в расположении не связанных между собой элементов. Творец опередил его и здесь, ведь самый прекрасный беспорядок – это художественные эффекты, которые все-таки представляют собой некую упорядоченность. Процесс чтения содержит индукцию, интерполяцию, экстраполяцию. Основание всех этих операций заложено в авторской воле, подобно тому, как научная индукция некогда считалась заложенной в воле божественной.
От первой до последней страницы нас ведет неведомая ненавязчивая сила. Это не значит, что нам просто расшифровать намерения художника. Я уже говорил, что о них мы можем только догадываться, тут играет большую роль опыт читателя. Но наши открытия подкрепляются твердой уверенностью, что красоты, увиденные нами в книге, никогда не бывают результатом только встречи. Случайно сочетаются только дерево, небо в природе. В романе -все наоборот: герои куда-то едут, оказываются в такой-то тюрьме. Если они гуляют по этому определенному саду, мы имеем дело сразу и с совпадением независимых причинных рядов (герой находился в некотором душевном состоянии, вызванном рядом психологических или общественных событий; но од– повременно он направлялся в конкретное место, и планировка города привела его в этот парк), и с проявлением более глубокой обусловленности. Ведь парк вызван к жизни для того, чтобы соответствовать определенному душевному состоянию, чтобы выразить это состояние через вещи, и сделать это наиболее рельефно. А само душевное состояние возникло в связи с пейзажем. Здесь причинная связь – только кажущаяся, ее можно назвать "беспричинной причинностью", а глубокой реальностью является обусловленность.
Но если я с полным доверием отношусь к последовательности целей, замаскированной под последовательностью причин, то это значит, что открывая книгу, я подразумеваю: объект рожден из человеческой свободы. Если бы я предполагал, что художник писал в порыве страсти и движимый ею, то мое доверие тут же испарилось бы. В этом случае поддержание последовательности причин последовательностью целей ни к чему бы не привело, потому что последняя обуславливается психологической причинностью, а тогда произведение искусства возвратилось бы в цепь детерминизма. Конечно, когда я читаю, я вполне допускаю, что автор мог быть взволнован им, и предполагаю, что первый эскиз произведения родился у него под воздействием страсти. Но само решение написать предполагает, что автор отошел от своих страстей, что он свои подчиненные эмоции сделает свободными, как это делаю я в процессе чтения. Все это означает, что он окажется на позиции великодушия.
Словом, чтение есть некое соглашение о великодушии между автором и читателем. Оба доверяют друг другу, оба рассчитывают друг на друга, и предъявляют друг к другу те же требования, что и к себе. Такое доверие уже само по себе есть великодушие: ничто не заставляет автора верить, что читатель использует свою свободу, равно как ничто не заставляет читателя верить, что автор воспользуется своей. Оба совершенно свободны в выборе решения. Поэтому становится возможным диалектическое движение туда и обратно: когда я читаю, я чего-то ожидаю; если мои ожидания оправдываются, то прочитанное позволяет мне ожидать еще большего, а это значит – требовать от автора, чтобы он предъявил ко мне самому еще большие требования. И наоборот: ожидания автора заключаются в том, чтобы я поднял уровень своих ожиданий еще выше. Выходит, что проявление моей свободы вызывает проявление свободы другого.
При этом не важно, к какому виду искусства относится эстетический объект: "реалистического" (либо претендующего на это) или "формалистического". В любом случае оказываются нарушены естественные отношения. Это только дерево на первом плане картины Сезанна, на первый взгляд, кажется продуктом причинных связей. Но здесь причинность – всего лишь иллюзия. Безусловно, она присутствует в виде пропорций, пока мы смотрим на картину. Но ее поддерживает глубинная обусловленность: если дерево находится именно здесь, то потому, что вся остальная картина обусловила появление на первом плане именно такой формы и таких красок. Так сквозь незаурядную причинность наш взгляд видит обусловленность как глубинное строение объекта, а за нею просматривается человеческая свобода как его источник и первоначальная основа. Реализм Вермеера столь откровенен, что поначалу кажется нам фотографичным. Но если реально рассмотреть осязаемость материи на его картинах, рельефность розовых кирпичных стен, богатую синеву ветки жимолости, мерцающий сумрак его интерьеров, немного оранжевый оттенок кожи на лицах его персонажей, напоминающий отполированный камень кропильницы, то полученное наслаждение вдруг доводит до нашего сознания, что все это обусловлено не столько формами или красками, сколько его материальным воображением. Формы передают субстанцию и саму плоть вещей. Общаясь с такой реальностью, мы, вероятно, максимально приближаемся к абсолютному творчеству.
Ведь в самой пассивности материи мы познаем бездонную свободу человека.
Как видно, творчество – не только создание нарисованного, изваянного или написанного объекта. Подобно тому, как мы видим вещи на фоне мира, так и объекты, представленные искусством, встают перед нами на фоне вселенной. На втором плане приключений Фабрицио видна Италия 1820 года, Австрия и Франция, и усеянное звездами небо, к которому обращается аббат Бланес, и, наконец, вся земля целиком. Если художник пишет поле или вазу с цветами, то его картина становится окном, распахнутым в мир. По красной тропинке, бегущей во ржи, мы уходим гораздо дальше, чем написал Ван Гог на своей картине. Мы движемся уже по другим ржаным долям, под другие небеса, до самой реки, впадающей в море. Наш путь продолжается до бесконечности, до другого конца света, в толщи земли, которая обуславливает существование полей и конечности. Так что через последовательность производимых или воспроизводимых объектов творческий акт хочет объять весь мир. Каждая картина, каждая книга заключает в себе всю полноту события; каждая из них дарит свободе зрителя эту полноту. Ибо так мы видим конечную цель искусства. Впитать в себя весь мир, показывая его таким, как он есть, но делать это нужно так, словно его источник – свобода человека. При этом, создание автора становится объективной реальностью только в глазах созерцателя. Это происходит посредством участия в ритуале зрелища, особенно чтения.
Сейчас мы уже можем лучше ответить на только что поставленный вопрос. Писатель обращается к свободе других людей, чтобы они, через взаимное выставление своих требований, предоставили человеку полноту бытия и возвратили человечество во вселенную.
Но если мы хотим узнать больше, то должны вспомнить, что писатель, как и все другие художники, хочет передать читателям определенное чувство, которое называют эстетическим наслаждением и которое я лично назвал бы эстетической радостью. Только эта радость говорит о том, что произведение завершено. Значит, мы должны рассмотреть это чувство в ракурсе наших предыдущих соображений.
Это эстетическое наслаждение или радость, в которой отказано творцу, пока он создает, доступно только эстетическому сознанию зрителя, для наш это – читатель. Это сложное чувство, его компоненты взаимообусловлены и неразделимы. Сначала оно совпадает с признанием трансцендентной и абсолютной цели, которая на мгновение отодвигается рядом утилитарных целей-средств и средств-целей. Например, призывом или, что то же самое, ценностью. Мое конкретное понимание этой ценности обязательно происходит на фоне осознания моей свободы. А свобода раскрывается для себя через трансцендентное требование. Это восприятие свободой самой себя и есть радость. Эта часть неэстетического сознания заключает в себе еще одну часть. Напомню, что чтение есть творчество, и моя свобода открывается самой себе не только как чистая независимость, но и как творческая активность. Это значит, что она не ограничивается своими законами, а чувствует себя частью объекта. На этом уровне появляется чисто эстетическое явление, то есть такое творчество, в котором созданный объект предстает перед своим творцом как объект. Это единственный случай, когда творец наслаждается создаваемым объектом. Это слово "наслаждение", отнесенное к конкретному осознанию читаемого произведения, достаточно ясно говорит о том, что мы столкнулись с глубинной структурой эстетической радости. Это удовольствие, получаемое от сознания своего лидерства по отношению к объекту, который осознается как главный, эту часть эстетического сознания я бы назвал чувством безопасности. Именно оно наделяет высшим спокойствием самые сильные эстетические чувства. Оно есть порождение строгой гармонии субъективного и объективного. Но, по своей сути, эстетический объект есть внешний мир, поскольку на него направлено творчество сквозь миры воображаемые. Эстетическая радость вызывается пониманием того, что мир – это ценность, или бремя, предлагаемое человеческой свободе.