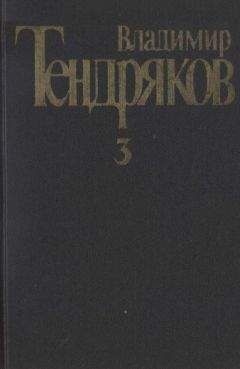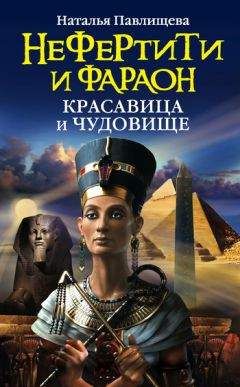Из трех условий, выдвинутых Толстым в качестве опознавательных примет настоящего искусства, мы можем согласиться только с первым — особенность чувства. Но одной этой особенности мало, чтобы цветом, звуком или «глаголом жечь сердца людей». Разве мало мы встречаем рассказчиков, бесцветно сообщающих о переживаниях наиособеннейших, из ряда вон выходящих, а вот Чехов и заурядное чувство предобеденного аппетита сделал «зажигательным». Толстой-теоретик не дает удовлетворительного ответа.
Зато его мимоходом подсказывает Толстой-художник, один из самых выдающихся мастеров передачи сложнейших переживаний. В его примере мальчик «изображает себя, свое состояние перед этой встречей, обстановку, лес, свою беззаботность и потом вид волка, его движения, расстояние между ним и волком и т. п.». Оказывается, мальчик меньше всего рассказывает слушателям о своем чувстве страха как таковом. По всей вероятности, он и не пытается пережить вновь с прежней силой свой бывший страх с липким потом, дрожью в коленках. Вновь-то он воссоздает не свое чувство, а причину, вызвавшую его. Воссоздает теми средствами, которые имеются в наличии. Он не имеет возможности показать своим слушателям натуральную причину страха — самого волка. Но он может описать его словами, передать мимикой и жестами его характерные черты. Слушателям тоже свойственно испытывать страх перед волком, на них тоже эмоционально воздействует элемент неожиданности — «беззаботность и потом вид волка», — ничего себе, «встречка с кумом», у кого хошь продерет мороз по спине. И чем мальчик ощутимее передаст причины, породившие его чувство, тем сильней отзовутся слушатели, тем острей испытают они сходное чувство.
Значит, успех мальчика, олицетворяющего для нас художника, в первую очередь зависит от того, насколько чувственно ощутимо удастся ему смоделировать причину своего страха. И уж не столь важно, смоделировал ли мальчик эту причину по образцу и подобию некоего реального случая или же на основе своего прежнего опыта, прежних наблюдений просто вообразил ее. Важно лишь то, чтобы модель была ощутима, — чем ощутимей, тем больше шансов, что о-на вызовет сходное чувство. Можно сказать, степенью ощутимости модели и измеряется сила воздействия художника.
Итак, я не «заражаю» Тебя своим чувством, не пользуюсь некими флюидами телепатического характера, я только тогда добиваюсь успеха, когда в силу своего мастерства воссоздаю причины, вызвавшие у меня чувство. Ты сходен со мной — человек, как и я, у Тебя те же пять органов чувств. Ты живешь в одном со мной мире, сталкиваешься с одними явлениями, у нас одни причины способны вызывать если не совсем одинаковые, то наверняка сходные чувства.
Микеланджело и Шекспир, Гойя и Бальзак, Роден и Достоевский создавали модели чувственных причин едва ли не более потрясающие, чем те, какие преподносит нам жизнь. Оттого-то их и называют великими мастерами.
Что же служит образцом для модели?
Ты вправе удивиться — что за вопрос? Да сама жизнь! Она порождает причины, вызывающие в нас чувства, — пугающих волков, красочные закаты, страстные натуры. Эти причины не бесформенны, художнику останется только как можно точней повторить их, преподнести зрителю, и пожалуйста — зритель испытывает чувство.
Если бы все было так просто!
Вновь вернемся к толстовскому примеру мальчика и волка.
Мальчик изображает перед слушателями и лес, и свое состояние, и расстояние до волка… Изображает, надо полагать, как можно точнее. А что это, собственно, значит «точнее»?
Если попросить Тебя описать лес, Ты, наверное, окажешься в некотором затруднении: «Ну, елки и березы, ну, тропинка, брусника, лес как лес, ничего особого». Лесничий опишет лес по-своему: «Такой-то массив, такой-то номер участка, деловой древесины с гектара столько-то…» Ботаник укажет на смешанность леса, опишет виды кустарников, травянистый подстилающий покров. Следователь хладнокровно отметит: событие произошло в стольких-то километрах от деревни такой-то, на тропе, ведущей туда-то, такие-то опознавательные приметы… Лес во всех этих описаниях совершенно разный, но каждое описание по-своему точно, даже Твое — «ничего особого», потому что и в самом деле данный лес не отличается от других лесов.
Мальчику же изображение леса нужно для того, чтобы ярче выглядело то бурное потрясение, которое он испытал в нем. Неожиданная встреча с волком покажется тем неожиданнее, а значит, впечатлительнее, чем спокойнее, тише будет выглядеть лес до этого. Поэтому мальчик отметит в первую очередь особенную, усыпляющую, а потому коварную тишину леса. Он волей-неволей выдвигает эту тишину на первый план, как бы преувеличивает ее значение среди других отличительных примет леса.
Переживший потрясение мальчик преувеличивает и свою беспечность, он и расстояние до волка может сократить с тридцати шагов до пяти — опасная близость! Если бы мальчик не преувеличивал, а передавал точно так, как было в действительности — невыразительный лес, невнятное состояние, далекое, не опасное расстояние до волка, — то, скорее всего, рассказ не подействовал бы на слушателей.
Но как-никак, а если расстояние до волка было тридцать шагов, а мальчик сокращает его до пяти, значит, он искажает действительность — врет, другого определения не подыщешь.
И все-таки законно спросить: какой рассказ более правдив — тот, что во всем точен, но не вызывает доверия в самом важном, ради чего он, собственно, и рассказывается, или же тот, что не точен в частностях, зато достоверен в главном — передает с должной силой испытанное чувство?
Уместно вспомнить тут слова Пикассо: «Мы все знаем, что искусство не есть истина. Искусство — ложь, по эта ложь учит нас постигать истину, по крайней мере, ту истину, какую мы, люди, в состоянии постичь».
Неужели — ложь? А если так, каким путем она помогает постичь истину?
Попробуем разобраться, почему мальчик вынужден искажать действительность?
Всегда ли мы одинаковы? Предположим, Ты по натуре человек сдержанный, рассудительный, способен объективно оценивать людей, но это не значит, что никогда не испытываешь, скажем, раздражения. Обычная усталость, бессонная ночь, неприятное событие — все может ввергнуть Тебя в это состояние. И тут пустяковый повод вдруг вызывает у Тебя вспышку гнева, у близкого человека обнаруживаешь неприятные черты, порой даже несколько необычная форма ушей — безобиднейшее отличие! — замечается с чувством неоправданного отвращения. Ты уже не столь сдержан, как прежде, не столь объективен в своих оценках. Ты внутренне заметно изменился по сравнению с собой в нормальном состоянии.
И это не только Твое исключительное свойство, это присуще всем в той или иной степени.
Окружающий мир, с которым мы постоянно соприкасаемся, вызывает в нас чувства. Но и эти вызванные внешним окружением чувства в свою очередь заставляют нас несколько иначе воспринимать знакомый нам мир — иначе чувствовать. Меняется наша восприимчивость, меняемся мы сами. Нельзя рассматривать человека как не-что стабильное, раз и навсегда заданное. Пользуясь бытовым выражением: любой и каждый — «с переливами», одни больше, другие меньше, но неизменно устойчивых на свете не бывает.
Толстовский мальчик в нормальном состоянии может трезво оценить расстояние: мол, до того пня не меньше тридцати шагов. Но вместо пня — волк, опасность! Мальчик испытывает сильное потрясение, и это меняет его, он уже не способен размышлять с прежней трезвостью, объективно оценивать обстановку. Волк — не пень, он захватывает все внимание мальчика, явление исключительное, из ряда вон выходящее, его просто невозможно мерить обычными мерками, как невозможно измерить по-обычному и расстояние до него, оно кажется куда меньше, чем есть на самом деле.
Волк мог находиться в неподвижности какую-то долю секунды, в обычном состоянии за такое короткое время ничего не успеешь разглядеть, но сейчас нервная система так обострена, что видишь столько, сколько мог бы увидеть за несколько минут при спокойном разглядывании: и уставившиеся в упор глаза волка, и зализы шерсти на покатом черепе, и сомкнутые челюсти…
Изменяется пространство, изменяется время — у мальчика все по-иному по сравнению с уравновешенным сторонним наблюдателем. Физики бы сказали, что он находится «в иной системе отсчета», его восприятия нельзя измерить аршином объективности.
А мальчик-то выражает перед слушателями свои восприятия, свои чувства: сказать, что он врет, нельзя — он так видел.
Мальчик делает отступление перед святая святых истинным положением вещей, — и в то же время он правдив, его поведение нельзя назвать лживым. Напротив, мальчик бы лгал, поступи он иначе, — сообщал не то, что чувствует.