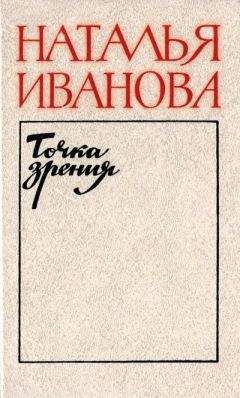Нет, я никак не могу принять слов о художественных просчетах в романе, высказанных А. Латыниной («Литературная газета», 1987, 18 апреля). Несмотря на то что перед нами произведение, вроде бы формально не завершенное, в нем есть завершенность концепции, завершенность внутренняя, и, собственно, то, что Трифонов не смог или не успел дописать, дописать было и невозможно — он шел на пределе… И конец публикации — описание майского парада 1937 года на Красной площади — мною читается как финал, как точка в повествовании. А последняя фраза — «Но прошло много лет…» — размыкает роман в реку жизни, в нашу историю и современность. В ту самую реку, о которой в финале повести «Зубр» («Новый мир», 1987, №№ 1–2) пишет Д. Гранин: «Река ширилась, величаво приближалась к устью. Жизнь его тоже приближалась к устью. Былые наветы, обиды, история с Академией наук — все, что когда-то волновало, осталось позади, виделось мелким. Он чувствовал себя рекой, текущей уже долго и бог знает откуда. В нем были воды верховья и тот исток, с которого все началось; в сущности, он жил много раньше, чем появился на свет, он был из прошлого века. Россия Тургенева, Чехова и Россия гражданской войны, Россия послевоенная, современная, Европа довоенная, гитлеровская Германия, атомный мир — в нем сошлись все эпохи нашего века, и все они продолжали пребывать в нем…»
Что такое судьба? Судьба человека — это и есть его пересечение с историей, его жизнь в истории. Д. Гранин пишет о судьбе человека, которую — по распространенному штампу — можно было бы назвать «трудной», если вообще к этой судьбе (как и к судьбам, скажем, Н. Вавилова или П. Капицы) приложимы какие-то определения, — о Николае Тимофееве-Ресовском. За строчками энциклопедии — спрессованная до сверхплотности жизнь: «…один из основоположников радиационной генетики, биогеоценологии и молекулярной биологии. В 1925–1945 работал в Германии».
Работал в Германии в условиях фашистского режима. Отказался возвращаться на родину в 1937 году. Перенес потерю любимого сына — тот погиб в Маутхаузене. А затем — принудительное возвращение на родину, лагерь, из которого его привезли почти умирающим, ссылка…
Д. Гранин обладает талантом отличать и «вытаскивать» судьбы: так, лучшие его книги написаны о реальных людях и являются своего рода портретами-исследованиями, а если идти от древних традиций нашей литературы и от ее сегодняшних жанровых пристрастий, — житиями. Всегда эти судьбы уникальны и «страдательны». Но эта уникальность из тех, что не отменяет типического, то есть движения времени, а подчеркивает, усиливает его.
Зубром окрестили Тимофеева-Ресовского — не только потому, что был схож «гривой», крупной головой, упрямым лбом, но и потому, что из редкой породы титанов мысли и духа. Он отстоял и сохранил в себе независимость, «диковатость», «неприрученность» зубра — вида, почти начисто истребленного человеком. То ли век мельчает, то ли мы сами сегодня не умеем замечать и ценить по достоинству ближних, но мощь таких, как Зубр, кажется ныне недостижимой. Мне трудно говорить о его научной деятельности и его открытиях — я не специалист и доверяюсь здесь знатокам. Интересна именно жизнь человека, перипетии которой были связаны с самыми крутыми поворотами эпохи, стойкость этого человека, сопротивление духа, словно бы усиливавшиеся от давления обстоятельств.
О Тимофееве-Ресовском в повести говорят хорошо знавшие его люди — источники света как бы расставлены в разных точках, а автор, он же интервьюер самого главного героя, направляет освещение. Авторская позиция выражена не только в комментариях — в постановке вопросов, в монтаже свидетельств. Такое освещение придает фигуре Тимофеева-Ресовского объемность, но не приводит к монументальности. Уж что-что, а монументальность именно таким людям, которым «трудно быть» — не только существовать, а именно быть, осуществлять свою задачу, особую цель, ради которой они пришли в этот мир, — не грозит. «Он позволял себе быть самим собою. Каким-то образом он сохранил эту привилегию детей». В творчестве Гранина именно эта проблема представляется мне одной из центральных: о лживости воздвигаемых псевдомонументов. И в «Зубре», являющемся, по сути, исследованием человека и ученого, автор показал твердость героя, но избег монументальности. Он показывает, как личность, обладающая чувством собственного достоинства, «самостояньем», раздвигает те самые «рамки», в которые ее вгоняет время.
Укорененность Тимофеева-Ресовского в русской истории, своеобразная «опорность», о которой подробно говорит автор, исследовавший «генеалогическое древо» его рода, — это фактор, обеспечивающий стойкость личности и «раскаленность натуры». Конец исторической цепи «уходил в неведомые нам двадцатые, тридцатые годы, в гражданскую войну, в Московский университет времен Лебедева и Тимирязева, тянулся и далее — в девятнадцатый век и даже в восемнадцатый, во времена Екатерины. Он был живым, ощутимым звеном этой цепи времен, казалось, оборванной навсегда, но вот найденной, еще живой». Все это для самого Николая Владимировича была современность. Он скажет: «история шла ко мне от людей, а не от книг». Если время сиюминутное встречало жестокостью и платило недоверием, то поддержка духовная ощущалась именно от рода, от тех мощных фигур, что стояли за спиной. Дело не в благородстве их происхождения, а в благородстве их духа. И по жизни Тимофеева-Ресовского вела эта нить, унаследованная от пращуров. Она же помогла ему и перенести тяжелейшие испытания 40-х годов. Михаил Нестеров, Густав Шпет, Сергей Булгаков, Николай Бердяев — все это люди, близкие Николаю Владимировичу в юности; одна из его теток прятала Бонч-Бруевича от полиции в революционные дни 1905 года, а сам Бонч-Бруевич, уже будучи управляющим делами Совнаркома, устраивал Колюшу на работу в артель грузчиков при «Центропечати».
Одна и та же социально-историческая среда способна формировать разные, подчас противоположные исторические характеры. Исторический характер Тимофеева-Ресовского складывался во многом и благодаря среде, происхождению, корням, эпохе, и вопреки тому, что было для него в этой эпохе неприемлемо. Для революционной эпохи могучей была, например, идея «безмерного расширения личности, — замечает Лидия Гинзбург. — А как, какими способами революция потом эту личность судит — об этом пока можно было не беспокоиться». Пастернак говорит в поэме «Девятьсот пятый год»:
Это было вчера,
И, родись мы лет на тридцать раньше,
Подойди со двора,
В керосиновой мгле фонарей,
Средь мерцанья реторт
Мы нашли бы,
Что те лаборантши —
Наши матери.
Л. Гинзбург (ее воспоминания опубликованы во «Вторых тыняновских чтениях», 1986), приведя этот отрывок, пишет: «Лаборантши изготовляли бомбы для террористических актов. А. Ахматова, казалось бы, от этого в стороне, но Ахматова с оттенком удовольствия рассказывала мне о том, что ее мать в молодости была знакома с народовольцами. „Моя мать любила говорить про какой-то кружок. Выяснилось потом, что этот кружок — „Народная воля“».
Так «чревата», по выражению героя Ю. Трифонова, так взрывчата, так неожиданна и пронизана токами, связями, судьбами история русской интеллигенции, из которой в буквальном смысле этого слова выросла мощь таких, как Тимофеев-Ресовский. А люди двадцатых — тридцатых годов: Метальников, Евреинов, Мозжухин, Глазунов, Гречанинов, Стравинский? Тимофеев-Ресовский вспоминал о Шмелеве, Зайцеве, Бунине, Тэффи, Алданове, о художниках Чехонине, Ларионове, Судейкине. «Замечательных людей кругом него было много… Он питал слабость к талантам. К талантам и красоте. Оба эти качества изумляли его, в них было торжество природы». А Нильс Бор? В счастливую пору дружбы с ним Зубр и предполагать не мог, что из «веселого трепа» физиков института Бора родится атомная бомба, а работа самого Зубра «послужит биологической защите от радиации, от последствий бомбы».
Мне трудно судить о том, почему он все-таки остался именно в Германии во времена разгула фашистского террора и войны с СССР. Вопрос этот возникает. Как известно, цвет немецкой творческой и научной интеллигенции эмигрировал на Запад. А Зубр остался. Вынужденно? Или — проявив недочувствие ученого, занятого прежде всего научными проблемами, для которого результаты его экспериментов превыше всего? Ответов на эти острые вопросы автор не дает.
В 1937 году ученый был вызван в советское посольство в Германии. Предложено было незамедлительно, срочно выехать на родину. Он отказался, сохраняя при этом советский паспорт и гражданство. «Можно ли требовать от человека самоубийства? — размышляет автор. — И если человек отказался шагнуть в пропасть, то проступок ли это?» Был арестован Н. Вавилов, Д. Лебедев изгнан из университета, А. Чижевский находился в лагере… А из Советского Союза в фашистскую Германию начали прибывать эшелоны с зерном, сахаром, маслом. Трудно было понять логику происходящего. Газеты приводили выдержки из речи Молотова: «Преступно вести такую войну, как война за уничтожение гитлеризма». Зубр, не любивший политику, «не придал тогда значения своему непокорству и уж наверняка не задумывался о последствиях», но последствия дали-таки о себе знать — позже, сразу после того, как советские войска, горячо приветствуемые Зубром (у него в доме находили убежище и переправлялись в безопасные места антифашисты), вошли в пригороды Берлина.