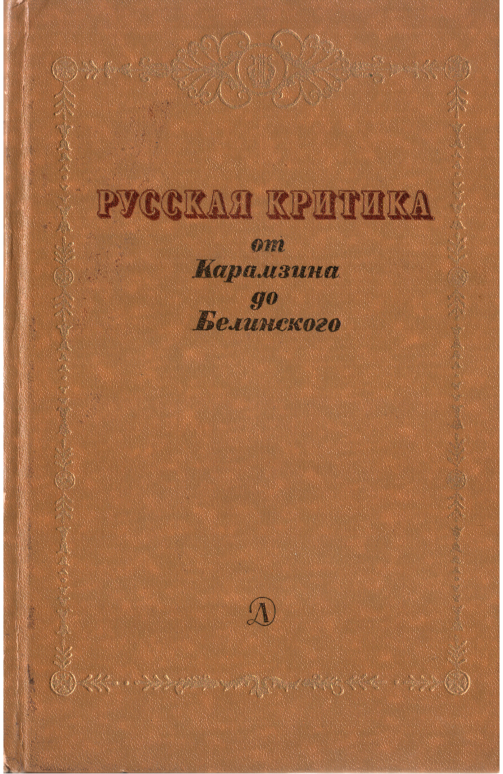Забота юности — любовь? . . . . . . . . . . . Как изменилася Татьяна! Как твердо в роль свою вошла! Как утеснительного сана Приемы скоро приняла! Кто б смел искать девчонки нежной В сей величавой, в сей небрежной Законодательнице зал? И он ей сердце волновал! Об нем она во мраке ночи, Пока Морфей* не прилетит, Бывало, девственно грустит, К луне подъемлет томны очи, Мечтая с ним когда-нибудь Свершить смиренный жизни путь. Любви все возрасты покорны; Но юным, девственным сердцам Ее порывы благотворны, Как бури вешние полям. В дожде страстей они свежеют, И обновляются, и зреют — И жизнь могущая дает И пышный цвет, и сладкий плод. Но в возраст поздний и бесплодный, На повороте наших лет, Печален страсти мертвой след: Так бури осени холодной В болото обращают луг И обнажают лес вокруг.
Не принадлежа к числу ультраидеалистов, мы охотно допускаем в самые высокие страсти примесь мелких чувств и потому думаем, что досада и суетность имели свою долю в страсти Онегина. Но мы решительно не согласны с этим мнением поэта, которое так торжественно было провозглашено им и которое нашло такой отзыв в толпе, благо пришлось ей по плечу:
О, люди! все похожи вы На прародительницу Еву; Что вам дано, то не влечет; Вас непрестанно змий зовет К себе, к таинственному древу: Запретный плод вам подавай, А без того вам рай не рай.
Мы лучше думаем о достоинстве человеческой натуры и убеждены, что человек родится не на зло, а на добро, не на преступление, а на разумно законное наслаждение благами бытия, что его стремления справедливы, инстинкты благородны. Зло скрывается не в человеке, но в обществе; так как общества, понимаемые в смысле формы человеческого развития, еще далеко не достигли своего идеала, то не удивительно, что в них только и видишь много преступлений. Этим же объясняется и то, почему считавшееся преступным в древнем мире считается законным в новом, и наоборот, почему у каждого народа и каждого века свои понятия о нравственности, законном и преступном. Человечество еще далеко не дошло до той степени совершенства, на которой все люди, как существа однородные и единым разумом одаренные, согласятся между собою в понятиях об истинном и ложном, справедливом и несправедливом, законном и преступном, так же точно, как они уже согласились, что не солнце вокруг земли, а земля вокруг солнца обращается, и во множестве математических аксиом. До тех пор преступление будет только по наружности преступлением, а внутренно, существенно — непризнанием справедливости и разумности того или другого закона. Было время, когда родители видели в своих детях своих рабов и считали себя вправе насиловать их чувства и склонности самые священные. Теперь: если девушка, чувствуя отвращение к господину благонамеренной наружности, за которого ее хотят насильно выдать, и любя страстно человека, с которым ее насильно разлучают, последует влечению своего сердца и будет любить того, кого она избрала, а не того, в чей карман или в чей чин влюблены ее дражайшие родители: неужели она преступница? Ничто так не подчинено строгости внешних условий, как сердце, и ничто так не требует безусловной воли, как сердце же. Даже самое блаженство любви,— что оно такое, если оно согласовано с внешними условиями? песня соловья или жаворонка в золотой клетке. Что такое блаженство любви, признающей только власть и прихоть сердца? — торжественная песнь соловья на закате солнца, в таинственной сени склонившихся над рекою ив; вольная песнь жаворонка, который, в безумном упоении чувством бытия, то мчится вверх стрелою, то падает с неба, то, трепеща крыльями, не двигаясь с места, как будто купается и тонет в голубом эфире... Птица любит волю; страсть есть поэзия и цвет жизни, но что же в страстях, если у сердца не будет воли?..
Письмо Онегина к Татьяне горит страстью; в нем уже нет иронии, нет светской умеренности, светской маски. Онегин знает, что он, может быть, подает повод к злобному веселью; но страсть задушила в нем страх быть смешным, подать на себя оружие врагу. И было с чего сойти с ума! По наружности Татьяны можно было подумать, что она помирилась с жизнью ни на чем, от души поклонилась идолу суеты — и в таком случае, конечно, роль Онегина была бы очень смешна и жалка. Но в свете наружность никого и ни в чем не убеждает: там все слишком хорошо владеют искусством быть веселыми с достоинством в то время, как сердце разрывается от судорог. Онегин мог не без основания предполагать и то, что Татьяна внутренно осталась самой собою и свет научил ее только искусству владеть собою и серьезнее смотреть на жизнь. Благодатная натура не гибнет от света, вопреки мнению мещанских философов: для гибели души и сердца и малый свет представляет точно столько же средств, сколько и большой. Вся разница в формах, а не в сущности. И теперь, в каком же свете должна была казаться Онегину Татьяна,— уже не мечтательная девушка, поверявшая луне и звездам свои задушевные мысли и разгадывавшая сны по книге Мартына Задеки, но женщина, которая знает цену всему, что дано ей, которая много потребует, но много