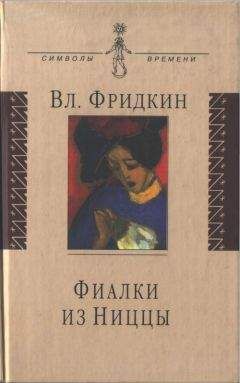Выдающейся сербской пианистке Мире Евтич, ее доброму и щедрому сердцу
Было лето девяносто четвертого года. Июнь стоял холодный, темно было как осенью. С утра я писал, потом оторвался и посмотрел в окно. На стекле — морщинки дождя, за стеклом — печальное серое небо и сырая задняя стена панельной «Керосинки». Так называют нефтяной институт, фасадом выходящий на Ленинский проспект. Была пятница — день тяжелый. Я всегда боялся пятниц. По таким дням лучше сидеть дома и делами не заниматься. Пить чай, читать или слушать музыку. Но я почему-то решил в этот день поехать и получить мамины деньги. Мама умерла год назад и оставила мне на сберкнижке свой вклад. Что-то около шести тысяч. Деньги эти она собрала за последние лет пятнадцать, пока была на пенсии. Еще года три тому назад это были какие-никакие деньги, «жигуленка» купить было можно. Конечно, если достать. Сберкасса была рядом с домом, где жила мама и где я родился: угол Поварской (недавней улицы Воровского) и Трубниковского переулка.
В доме этом прошло детство, школьные и университетские годы. Это был старый многоквартирный доходный дом начала века. Наша квартира была на четвертом этаже и до революции принадлежала чете князей Гагариных. Мама приехала в Москву, кажется, в двадцать первом году, поступила на биофак Московского университета и получила от РКИ, где работала, комнату. Квартира была тогда уже коммуналкой, в шести комнатах жили шесть семей. Князю Гагарину и его жене оставили десятиметровую комнату при кухне. Раньше в ней жила их прислуга. Мама рассказывала, как учила старую княгиню разжигать буржуйку, заправлять фитиль в керосинку и накачивать примус. У княгини тряслись руки, и она никак не могла сладить с «ежиком». Маме запомнились кисти ее рук — красивые, с длинными пальцами, на которых синим пламенем горели два бриллиантовых кольца. Позже княгиня отдала кольца дворничихе за мешок картошки.
К студентке университета одинокие и несчастные Гагарины прониклись доверием. Когда княгиня узнала, что мама кроме русского знает только идиш, она стала заниматься с ней французским. Занимались на кухне поздно вечером, когда там никого не было. На кухне стояли шесть столов, над которыми висели тазы и корыта. Княжеский стол стоял в самом невыгодном месте, у выхода на черную лестницу, рядом с помойным ведром. Учебника и бумаги не было. Княгиня писала огрызком карандаша на полях «Вестника Европы». Чтобы меньше мерзли руки, она надевала старые длинные до локтей бальные перчатки. Когда мама вышла замуж за моего отца и родился я, Гагариных в квартире уже не было. Уехали они или умерли — мама не помнила. Сколько времени продолжались уроки французского, тоже не известно. Не думаю, чтобы мама когда-нибудь говорила или читала по-французски.
Напротив нашего дома на Поварской стоят два особняка. Это шведское и немецкое посольства. Помню, как до войны с балкона немецкого свисал страшный черно-красный флаг со свастикой. Рядом с ним, в усадьбе Ростовых, героев «Войны и мира», и поныне размещается Центральный дом литераторов. Рядом с усадьбой — старый особняк, нынче тоже отданный писателям. До революции особняком владели Олсуфьевы. В начале восьмидесятых, будучи во Флоренции, я встретил Марию Васильевну Олсуфьеву в гостях у Ани Воронцовой, потомка Пушкина. В этом особняке Мария Васильевна родилась. После революции девочкой вместе с матерью, урожденной Шуваловой, уехала из России и с девяти лет жила в Италии. Стала известным переводчиком русской литературы на итальянский. В хрущевскую оттепель ее начали приглашать в Москву и однажды в ЦДЛ, в старом особняке, она встретила Новый год. Побродив по дому, нашла свою детскую и комнату гувернантки. Прогулялась по Поварской и Молчановке. Вспомнила дома и деревья. Постояла у старой липы на углу Поварской и Малого Ржевского, где жила ее тетка Шувалова. Но в дом зайти не решилась. Там в тесных коммуналках с высокими лепными потолками и итальянскими окнами жили чужие люди. После того как Мария Васильевна перевела на итальянский «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, в визе ей отказали. Старуха много раз ездила в Рим, в Советское посольство, хлопотала, писала в Москву в Союз писателей. Безрезультатно. Так и не увидела больше ни Москвы, ни дома, где прошло детство. А умерла во Флоренции накануне нашей перестройки.
Раньше перед усадьбой Ростовых, в центре двора, стоял странный обелиск. На нем было выбито одно слово: «мысль». По обе стороны от ворот — службы. Во времена Ростовых там, видимо, были каретный сарай и конюшни. Теперь там — магазины и редакции журналов. В правом флигеле, в лабиринте прокуренных клетушек — редакция «Дружбы народов». Я вспомнил, что там уже давно лежат два моих рассказа. Вот, подумал я, заодно зайду и узнаю.
Я подъехал к Поварской со стороны Садового кольца. Когда-то на Кудринской площади (бывшей Восстания) был круглый сквер. Няня водила меня туда гулять. Однажды, пока она болтала с товарками, а мы, дети, бегали по кругу, я увидел на скамейке забытый кем-то арбуз. Представить себе арбуз без хозяина я не мог. Мне шел пятый год. Обхватив арбуз обеими руками и прижав к животу, я еле дотащил его до нашей скамейки. Хозяин арбуза (я его почему-то запомнил), человек в косоворотке, перепоясанной кавказским ремешком с серебряной накладкой, прогуливался по кругу, нервно жестикулируя и разговаривая сам с собой. Я еще тогда подумал, что это писатель и он сочиняет. Писатель долго отчитывал меня и няню. Мне было очень стыдно. Видимо, это был первый литературный урок.
На левом углу Поварской (если смотреть со стороны Садового) долго сохранялся одноэтажный каменный лабаз. Когда-то там была керосиновая лавка. Прямо за лабазом — ворота толстовской усадьбы. На месте непонятного памятника «мысли» теперь скульптура Льва Толстого, задумчиво сидящего в кресле с книжкой в руке. А рядом — табличка, сообщающая, что эта скульптура — дар писателей Украины к празднику 300-летия воссоединения Украины с Россией. Я подумал, как быстро меняется все в России, ветшают эпитафии и памятники. Вспомнил, как недавно, гуляя возле Кремля по Александровскому саду, остановился у старой стелы, окруженной туристами. Когда-то стелу поставили тоже в честь 300-летия, только Дома Романовых. После революции на ней выбили имена социалистов Кампанеллы, Прудона, Сен-Симона, Фурье, Плеханова… Одна из туристок спросила экскурсовода, не памятник ли это жертвам сталинских репрессий.
Выйдя из редакции, я перешел на правую сторону улицы к Театру киноактера, зданию, построенному в стиле конструктивизма двадцатых годов. Когда-то это был дом политкаторжан. В тридцатых годах, когда страна переполнилась настоящими каторжанами, дом закрыли и открыли кинотеатр. Назывался он «Первый». Меня, мальчишку, знакомая билетерша пускала туда без билета. Новые фильмы тогда шли редко, и я их смотрел на дневных сеансах по многу раз. Например, «Сердца четырех». А Валентину Серову видел однажды в коридоре нашей коммуналки.
Встречи с Константином Симоновым
В одной из комнат жил с родителями Сережа Яковлев, личный шофер Константина Симонова. Симонов часто появлялся в нашем мрачном коридоре, озарявшемся одинокой лампочкой, свисавшей на шнуре с высокого грязного потолка. Лампочка, телефон на стене и туалет были рядом. Здесь всегда стояла очередь из жильцов. Утром — в туалет, вечером — к телефону. Как-то днем после школы я долго трепался по телефону с приятелем. Подошел Симонов и ребром ладони провел по горлу. Дескать, до зарезу срочно нужно позвонить. Я тут же повесил трубку. Симонов говорил по телефону, а я нахально стоял и смотрел на него. Кончив говорить, Симонов спросил меня, люблю ли я читать. Я ответил, что люблю Пушкина.
— А наизусть помнишь? Ну прочти что-нибудь.
Я принял позу и стал декламировать «Элегию»:
…Шуми, шуми послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан…
Только сказал я про волнение океана, как из бачка с шумом спустили воду и из туалета вышла продавщица Шура. Она жила с дочерью в той самой комнате при кухне, где когда-то жили Гагарины. А работала в винном отделе продмага в нашем же доме. Тут к Симонову подошла Валентина Серова в сером каракулевом манто, давно поджидавшая его в передней. У нее было лицо обиженной девочки: пухлые губы и широко раскрытые и, как мне показалось, заплаканные глаза.
Через много лет я встретил Симонова еще раз. Было это в начале шестидесятых. Меня впервые выпустили в ГДР читать лекции по физике в Магдебурге. От радости я купил билет до Берлина в спальный вагон «СВ». С утра до вечера я не выходил из своего плюшевого купе, сидя на мягком диване и наслаждаясь персональным туалетом. Ночью мне не спалось. Я вышел в коридор и встал у окна. За окном было темно и лишь изредка огни мелькавших станций зажигали на стекле косые полосы дождя. Вагон спал. У соседнего окна стоял седой коротко стриженный мужчина, курил трубку и смотрел в окно. Мне захотелось поговорить и я сказал: