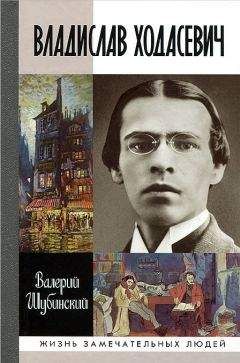Юрий Колкер АЙДЕССКАЯ ПРОХЛАДА
Очерк жизни и творчества Владислава Ходасевича (1886-1939)
Из книги:
Собрание стихов В. Ф. Ходасевича в двух томах, составитель и редактор — Юрий Колкер, Париж, La Presse Libre, 1983.
В основу очерка положен доклад, прочитанный 30 мая 1981 года в Ленинграде, в частной квартире, на вечере, приуроченном к 95-летаю со дня рождения поэта.
«В кликушестве моды его заслоняют все школы (кому лишь не лень): Маяковский, Казин, Герасимов, Гумилев, Городецкий, Ахматова, Сологуб, Брюсов — каждый имеет ценителей. Про Ходасевича говорят: «Да, и он поэт тоже…». И хочется крикнуть: "Не тоже, а поэт Божьей милостью, единственный в своем роде"…»
Андрей Белый. (О стихах В. Ходасевича), 1922.
«Ходасевич — величайший из современных русских поэтов…»
Максим Горький. Письмо к редактору бельгийского журнала Зеленый круг, 1923.
Настало время, когда слова «один из драгоценнейших русских поэтов», сказанные некогда над прахом Блока, уместно связать с именем того, кто их произнес, — с именем Владислава Ходасевича. У нас есть для этого серьезные основания. Быть может, важнейшее из них отметил Андрей Белый в своей первой статье о Ходасевиче: духовность, по Белому, выделяет стихи Ходасевича среди стихов прочих поэтов тех лет, которые — в лучшем случае — только душевны, т. е. метафоричны, предметны, пестры; в худшем — суетны. Ходасевич идет «до последней черты правдивейшего отношения к себе как к поэту», и его итог — «откровение духовного мира» (А. Белый). Не к требованию ли духовности сводится основной эстетический запрос в последней четверти XX века? Если слова Андрея Белого верны, то Ходасевич — наш современник.
Но духовно-эстетический запрос вечен, а его сегодняшняя острота временна: она вызвана духовным голодом предшествовавших десятилетий. Поэтому, вероятно, Ходасевич будет осознан как современник и нашими отдаленными потомками, пусть в меньшей мере, чем нами; и они, надо думать, увидят, что «самоновейшее время не новые черты поэзии вечной естественно подчеркнуло; и ноты правдивой поэзии, реалистической (в серьезнейшем смысле) выдвинуло как новейшие ноты» (А. Белый).
Духовное противостоит в человеке телесному, преодолевает и, в конечном итоге, отрицает телесное. Но это противостояние — результат длительного и мучительного опыта; самое разъединение двух составляющих человека начал есть признак зрелости, оно рождается из страданий. Поэтому Ходасевич, как правило, непонятен молодым читателям. Молодость сторонится страданий; она синкретична, дух и плоть сливаются в ней под знаком плоти. Иллюзия новизны — упругие мысли, энергичные слова — заслоняют от нее сущностное виденье мира. Что скажут двадцатилетнему читателю такие вот ненавязчивые строки:
Безветрие, покой и лень,
Но в ясном свете
Откуда же ложится тень
На руки эти?
Не ты ль еще томишь, не ты ль,
Глухое тело?
Вон — белая взметнулась пыль
И полетела.
Взбирается на холм крутой
Овечье стадо…
А мне — айдесская сквозь зной
Сквозит прохлада.
Айдесская прохлада, пронизывающая каждую точку поэтического пространства Ходасевича с середины 1910-х годов, — не только предчувствие смерти, вызванное ранней зрелостью: она — присутствие вневременной и внепространственной субстанции, ее живое дыхание. В этом многозначительном символе я вижу ключ к пониманию жизни и творчества поэта.
Однозначного отношения к Ходасевичу не установилось, и здесь кроется одновременно причина и следствие его жизнеспособности. Поэзия живет пристрастиями и вряд ли нуждается в табели о рангах. Крайности в оценках часто закрывают читателям доступ к поэту. Но вполне отказаться от оценок нельзя. Нельзя отрицать существования некоего первого ряда русских поэтов, сонма дорогих теней, вызывающих айдесский ветер, приводящих в движение целые пласты нашего сознания — и сообщающих смысл словосочетанию: русская поэзия. И вот к этому — не вполне очерченному — первому ряду, с полной убежденностью (и пристрастием), я и отношу Ходасевича. Там, «в тех садах за огненной рекой» (здесь и далее в кавычках, не снабженных ссылкой, приводятся цитаты из стихов и прозы Ходасевича), он как равный выдерживает соседство с Блоком и Кузминым, Ахматовой и Мандельштамом.
Моя изгнанница вступает
В родное, древнее жилье
И старшим братьям заявляет
Равенство гордое свое,
— скажет поэт о своей душе-Музе в 1922 году.
Современники спорили о месте Ходасевича на русском Парнасе и не согласились. Отметим два крайних мнения: Ходасевич — лучший поэт серебряного века (София Парнок, Максим Горький, Борис Поплавский); Ходасевич — не поэт вовсе (Н. Асеев). Спор был подхвачен потомками, но в советское время его чистоту нарушили идеологические соображения. Включаясь в спор, отметим, что для изучения Ходасевича вообще сделано очень мало. Попытка собрать вместе все его стихи предпринимается, по существу, впервые. (Настоящий очерк был приложен к подготовленному автором двухтомнику Ходасевича, вышедшему в Париже в 1983 году.) Едва ли не впервые пишется и его биография, в основу которой кладем разрозненные фрагменты и сколки воспоминаний, свидетельства часто противоречивые и тенденциозные. Многое в жизни поэта удастся прояснить лишь в неопределенном будущем, но многое может быть узнано или невосполнимо утрачено лишь в наши дни: последние из людей, близко знавших поэта, уже очень немолоды. Между тем, его творческая судьба, его опыт приобрели для нас к середине 1970-х годов остроту, которой не могло быть прежде, и нуждаются в скорейшем переосмыслении. Необходимо вспомнить Ходасевича во всей мыслимой полноте.
При жизни поэта, с 1908 по 1927, вышло пять книг его оригинальных стихов, содержащих всего 191 стихотворение. Это, по русским масштабам, совсем немного. Нам удалось прибавить к ним еще 56 законченных стихотворений и набросков, а также 44 перевода, из которых 8 — большие поэмы, и значительное число стихотворных вкраплений в переведенную им прозу.
Но если даже вообразить, что большая часть сохранившегося поэтического наследия Ходасевича будет утрачена или отвергнута, он и тогда сохранит свои права на нашу благодарную память — как литературовед, мемуарист, критик, переводчик. В каждом из этих своих качеств он был незауряден. Им написано около трехсот литературных статей, на его счету открытия в пушкиноведении. Он оставил нам «образцы той критической мысли и того критического стиля, которых так мало всегда было в нашей литературе и которые сейчас ушли из нее вовсе» (Н. Н. Берберова). Проницательная литературоведческая мысль не оставляет Ходасевича и в его воспоминаниях: они естественно переплетаются с исследованием. Здесь, кроме того, обнаруживается его редкая наблюдательность и удивительное знание человеческой природы, — то особое знание, которое немыслимо без любви к людям. Если отличительная черта лучших стихов Ходасевича — духовность, то в прочих его трудах особенно рельефно выступает их добросовестная сдержанность — столь же неотъемлемая черта его стиля, его таланта. В 1939 году, в самый год смерти поэта, вышла книга его воспоминаний Некрополь, быть может, лучшее из написанного о серебряном веке; вот предисловие к ней, в высшей степени характерное:
Собранные в этой книге воспоминания о некоторых писателях недавнего прошлого основаны на том, чему я сам был свидетелем, на прямых показаниях действующих лиц и на печатных и письменных документах. Сведенья, которые мне случалось получать из вторых или третьих рук, мною отстранены. Два-три незначительных отступления от этого правила указаны в тексте.
Духовность и сдержанность нерасторжимо сплавлены в творчестве Ходасевича. Этот сплав высоко ценили великие писатели прошлого, но в кругу литераторов начала XX века, с их тягой к непомерному, с их поспешным и часто невразумительным вдохновением, — он выглядел по меньшей мере необычным. Литературная разнузданность стала в те годы едва ли не симптомом таланта, и это соответствие, осев в обывательском сознании, удержалось в нем и до наших дней… Два отмеченных нами качества — лишь края спектра творчества Ходасевича. Заключенную между ними смысловую гамму лучше всего рассматривать во временной развертке, выслушивая попутно всех тех, кто пожелает высказаться; мы, как уже сказано, должны вспомнить Ходасевича: имя, которым по праву могла бы гордиться Россия, ею в настоящее время полузабыто.