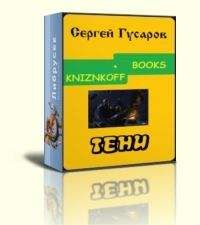Николай Михайлович Карамзин
О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств
Мысль задавать художникам предметы из отечественной истории достойна вашего патриотизма и есть лучший способ оживить для нас ее великие характеры и случаи, особливо пока мы еще не имеем красноречивых историков, которые могли бы поднять из гроба знаменитых предков наших и явить тени их в лучезарном венце славы.{1} Таланту русскому всего ближе и любезнее прославлять русское в то счастливое время, когда монарх и самое провидение зовут нас к истинному народному величию. Должно приучить россиян к уважению собственного; должно показать, что оно может быть предметом вдохновений артиста и сильных действий искусства на сердце. Не только историк и поэт, но и живописец и ваятель бывают органами патриотизма. Если исторический характер изображен разительно на полотне или мраморе, то он делается для нас и в самых летописях занимательнее: мы любопытствуем узнать источник, из которого художник взял свою идею, и с большим вниманием входим в описание дел человека, помня, какое живое впечатление произвел в нас его образ. Я не верю той любви к отечеству, которая презирает его летописи или не занимается ими: надобно знать, что любишь; а чтобы знать настоящее, должно иметь сведение о прошедшем.
Вы говорите о трех исторических картинах, уже написанных в нашей Академии художеств: содержание их достойно похвалы. Взятие Казани, избрание Михаила Феодоровича и Полтавское сражение представляют нам важные эпохи российской истории. Разрушение Казанского царства запечатлело независимость России, славно освобожденной от ига татарского дедом царя Иоанна Васильевича, истинно великим князем Иоанном. С воцарением Романовых отечество наше, говоря простыми русскими словами, увидело свет: мятежи прекратились, и Россия начала возрастать в величии и славе с какою-то удивительно стройною постепенностию. А Полтавское сражение утвердило или, лучше сказать, основало первенство России на севере. Я надеюсь, что художники, почтив таким образом сии три важные эпохи, удовлетворили и всем особенным требованиям искусства в изображении действия.
Зная совершенно историю нашу, имея вкус просвещенный и любовь к художествам, которая уже предполагает основательные сведения в их правилах и красотах, вы еще хотите советоваться с другими в рассуждении дальнейшего выбора предметов для живописцев и ваятелей. Мне остается быть благодарным за честь вашей доверенности – и без дальнейших оговорок пустой учтивости отдаю вам на суд некоторые мысли свои, не вмешиваясь в права художников, а говоря единственно как любитель отечественной истории, имеющий только самую легкую идею о красотах искусства.
Я желал бы видеть на картине самое начало российской истории, то есть призвание варяжских князей в славянскую землю. Художник мог бы изобразить трех славных братьев с товарищами их на ловле, которая была любимым упражнением северных народов. Послы славян, чуди и кривичей окружают Рюрика; они уже сказали ему все то, что заставляет их говорить Нестор. Рюрик, опершись на лук свой, задумался. Синеус и Трувор советуются между собою. Некоторые из их товарищей занимаются ловлею; другие, узнав о прибытии славян, спешат к ним. Послы говорят друг с другом, удивляясь величественной красоте варяжских князей. Взоры их всего более обращаются на глубокомысленного Рюрика с желанием, чтобы он согласился повелевать землею славянскою, богатою, прекрасною, но смятенною внутренними раздорами. – Художник отличит лица славянские от варяжских: первые должны быть нынешние русские, а за образец последних надобно взять шведские, норвежские или датские. Варяги были норманцы: сим общим именем назывались, как известно, жители упомянутых трех земель.
Если бы Гостомысл был в самом деле историческим характером, то мы, конечно бы, захотели его изображения; но Нестор не говорит об нем ни слова. – Вадим Храбрый принадлежит также к баснословию нашей истории.
Олег, победитель греков, героическим характером своим может воспламенить воображение художника. Я хотел бы видеть его в ту минуту, как он прибивает щит свой к цареградским воротам, в глазах греческих вельмож и храбрых его товарищей, которые смотрят на сей щит как на верную цель будущих своих подвигов. В эту минуту Олег мог спросить: «Кто более и славнее меня в свете?»
Сей же князь может быть предметом картины другого роду – философической, если угодно. Во всяких старинных летописях есть басни, освященные древностию и самым просвещенным историком уважаемые, особливо если они представляют живые черты времени, или заключают в себе нравоучение, или остроумны. Такова есть басня о смерти Олеговой.{2} Волхвы предсказали ему, что он умрет от любимого коня своего. Геройство не спасало тогда людей от суеверия: Олег, поверив волхвам, удалил от себя любимого коня; вспомнил об нем через несколько лет – узнал, что он умер, – захотел видеть его кости – и, толкнув ногою череп, сказал: «Это ли для меня опасно?» Но змея скрывалась в черепе, ужалила Олега в ногу, и герой, победитель Греческой империи, умер от гадины! Впечатление сей картины должно быть нравоучительное: помни тленность человеческой жизни! Я изобразил бы Олега в то мгновение, как он с видом презрения отталкивает череп; змея выставляет голову, но еще не ужалила его: чувство боли и выражение ее неприятны в лице геройском. За ним стоят воины с греческими трофеями, в знак одержанных им побед. В некотором отдалении можно представить одного из волхвов, который смотрит на Олега с видом значительным.
Ольга есть героиня наших древних летописей, которые рассказывают чудеса об ее хитрости. Художнику должно воспользоваться сим знаменитым историческим характером: ему остается выбрать любое из десяти возможных представлений. Захочет ли он изобразить Ольгу в ту минуту, как она, пылая местию в сердце за убиение супруга и скрывая гнев свой под видом ласки, принимает у себя в тереме послов древлянских; или когда на могиле Игоревой отправляет тризну (что подает художнику случай представить древние обряды язычества); или когда она среди торжественного великолепия греческой религии крестится в Цареграде. Но я знаю, что художники не любят старых женских лиц: а Ольга в это время была уже немолода. Итак, они могут изобразить ее сговор. Например: Олег подводит ее к молодому Игорю, который с восхищением радостного сердца смотрит на красавицу, невинную, стыдливую, воспитанную в простоте древних славянских нравов. За нею стоит мать ее, о которой нет хотя ни слова в летописях, но которая присутствием и благородным видом своим должна дать нам хорошую идею о нравственном образовании Ольги: ибо во всяком веке и состоянии одна нежная родительница может наилучшим образом воспитать дочь. Живописец изобразит приготовления к сговору по своей фантазии. Один почтенный россиянин думает, что славяне не имели жрецов: не смею противоречить ему и знаю, что Нестор об них не упоминает, говоря только о волхвах; однако ж артист мог бы представить на сей картине священных служителей Лада, чтобы обогатить ее содержание.
Никто из древних князей российских не действует так сильно на мое воображение, как Святослав, не только храбрый витязь, не только ужас греков (которые стращали детей своих именем Сфендосолава: так они называли его), но и прямодушный рыцарь. Еще детскою рукою бросив копье в древлян, убийц его родителей, он не только всю жизнь свою провождал в поле, делил нужду и труды с верными товарищами, спал на сырой земле, под открытым небом; но, любя славу, любил и строгую воинскую честность. Нестор, скупой на слова, не забыл сей великой черты характера его: Святослав никогда не хотел нападать нечаянно, но всегда наперед объявлял войну (что, в тогдашние варварские времена, было беспримерно). Сей герой любезен нам и потому, что в жилах его текла уже кровь славянская и что он первый из русских князей назывался именем языка нашего. Рюрик, Олег, Игорь были иностранцы: Святослав родился от славянки. Художник, знакомый с мысленным образцом геройства и с духом времени, представит нам, как сей древний Суворов России, привыкнув надеяться на судьбу, видит себя окруженного со всех сторон греками. Верная дружина его, изумленная их бесчисленным множеством, в первый раз уныла; победа казалась ей наконец невозможною. Святослав говорит речь, достойную спартанца или славянина: речь, которую все наши историки хотели украсить, но которая прекрасна только в Несторе и, без сомнения, не есть выдумка: ибо сей добрый старец не умел бы так хорошо выдумать. Князь, сказав: «Ляжем зде костьми; мертвые бо срама не имут», обнажает меч свой: вот минута для живописца! Святославовы витязи (которых он изобразит, сколько хочет) в быстром движении геройского вдохновения также извлекают мечи, машут копьями, гремят щитами и проч. Вдали можно представить греческий необозримый стан. – Думаю, что искусный артист найдет способ оживить сию картину.