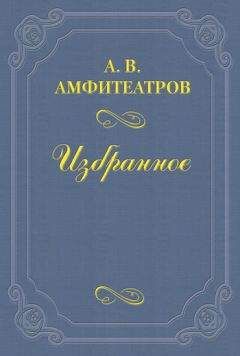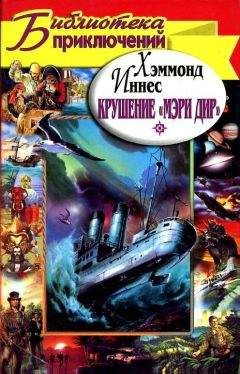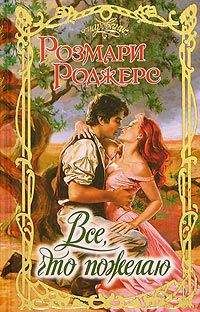Александр Валентинович Амфитеатров
Записная книжка
Не знаю, почему, – должно быть, под впечатлением бурной полемики о Горьком, – видел во сне… Адолия Роде!
Как, не помню, но в личности уверен.
Развеселаго, жизнерадостнаго, толстомордаго, толстопузаго Адолия Роде, до октябрьской революции хозяина «Виллы Роде», после октябрьской революции, – милостью Горькаго, – хозяина «Дома Ученых».
Там, в недрах «Виллы Роде», и обрел Максим Адолия. Пришел, увиде и решил:
– Вот истинно добротный опекун для русской науки. Лучшаго и искать не надо: в самый раз!
Глубокомыслие и смелость решения заслуживают тем большаго внимания, что оно шло грудью на встречу враждебным предразсудкам буржуазнаго мира. Содержимая и управляемая Адолием «Вилла Роде» имела репутацию не столь двусмысленную, сколь определенную. Из того разряда, о коем тургеневский помещик Кауров выразился:
– Подобной репутации я и своей бурой кобыле не пожелаю!
В романе «Nana» директор кафешантана той же марки нагло требовал, чтобы посетители не называли его заведения «театром», но, без лицемерной вежливости, прямо и откровенно «публичным домом». (В французском тексте словечком покрупнее).
К чести г. Роде, он никогда не поднимался на столь высокую степень цинизма. Напротив. Скромно приуменьшая свои заслуги, он всегда настаивал, что между виллою Роде и публичным домом разница ничуть не меньше, чем между бомбою и ядром или между советским правительством и третьим интернационалом. Даже в идее, не говоря уже о стоимости предлагаемых благ!
Особенно возмутительна была клевета (или, юридически точнее, диффамация), будто предлагаемыми на вилле Роде благами обслуживались исключительно великие князья, компания Распутина, золотая молодежь высокаго полета, мышиные жеребчики из министерств и царская охранка. На эти недостойныя инсинуации г. Роде имеет право возразить с справедливою гордостью:
– Нет-с, вы меня в монархисты не толкайте! На первых порах, после «пломбированнаго вагона» кто только не швырял у меня немецких, генеральнаго штаба, денег! И Гриша Зиновьев лыка не вязал! А Луначарский кренделя ногами выписывал! И Нахамкес, не заплатив, задним ходом удирал! И золотое сердце Феликса Дзержинскаго улыбками девочек утешалось! А однажды даже и самого Ленина… разумейте, языцы, и покоряйтеся: Ленина!!! – замертво вынесли! Понимаете теперь, каков я есмь большевик.
Относительно последняго пункта я мог бы даже лично свидетельствовать в пользу г. Роде, так как вез сие бездыханное тело с Виллы Роде во дворец Кшесинской мой собственный бывший шоффер, впоследствии не без гордости о том повествовавший.
* * *
А. В. Пешехонов памятен и любезен русскому обществу, как, в некотором роде, первосвященник в храме «Русскаго Богатства». Pontifex maximus.
Pontifex, в первоначальном значении слова, – «строитель моста». Римские перво-инженеры, соединившие берега Тибра перво-мостом, выслужились, какими-то доисторическими судьбами, в архиереи.
Pontifex Пещехонов, тряхнув стариной первозначения, старается соорудить мост между эмиграцией и Совдепией. Первая приглашается сочувствовать признанию второй государствами Европы. Строительствует А. В. Пешехонов не без сотрудников. Много их сейчас понаехало, понтифексов новейшей формации.
Рацеи их печатаются газетами стыдливо – «в порядке дискуссии». Читаю, а в голове мелькают образы, казалось бы, совсем не соответственные серьезности авторов. То Бубнов из «На дне» ухмыльнется и свистнет:
– А ниточки то гнилыя!
То просеменит куда-то в неведомое пространство, вертя хвостом и с загадочною улыбкою на крашенных губах, остроумная одесская девица, которая сумела и капитал приобрести, и невинность сохранить.
То, вдруг, – странная песня:
И чорт тебя нес
На дырявый мост?!
Было б тебе держатися
За собачий хвост!
Впрочем, последнее уже не в мечте, а на яву. Нечто в место такого понтифекальнаго гимна пропели, по поводу пресловутой статьи А. В. Пешехонова, и Мякотин, и Мельгунов, и «Бабушка». Его мостостроительство имело решительно «дурную прессу».
* * *
А. В. Пешехонов среди усердствующих мостостроителей, конечно, нечто вроде «голубки в стае черных воронов». Если ему теперь «попадает» с разных сторон, то, – продолжу птичьи сравнения, – лишь на том же основании, на каком крестьянин крыловской басни свернул голову овсянке, угодившей в сеть вместе с вороватыми воробьями. Все понимают, что эта овсянка с воробьями лишь летала, но пшеницы не клевала. Помнят в Пешехонове писателя честнаго и самоотверженнаго. Нравится или не нравится то, что он пишет, дельно оно или не к делу, но пишет он, конечно, то, что думает, то, что искренне и убежденно считает необходимым внушить своим многочисленным читателям и почитателям.
Не сомневаюсь в том, что в мостостроительстве наберется и еще пара-другая овсянок, ему подобных.
Но в расплодившемся множестве понтифекальных воробьев нет числа порхающим фигурам, достойным кисти не то, что Айвазовскаго, но самого Веласкеса.
Не знаю, многих ли эмигрантов убедят резвые понтифексы на переход по сооружаемым ими мостам к амбарам советской пшеницы.
Но самим понтифексам вступать на мосты дедушка Крылов – не советовал бы. По силе известной басни.
«Чем на мост вам итти, ищите лучше броду».
* * *
Прочитал у стараго, сильно забытаго, историка Ешевскаго.
Императрица Елизавета Петровна, растолстев к пожилым годам, так обленилась, что ей трудно стало уже подписывать не только деловыя бумаги, но даже письма.
Письмо к французскому королю, с поздравлениями по случаю дня рождения у него внука, подносилось ей к подписи в течение трех лет. И на силу, на силу то она однажды как то собралась с духом, подмахнула свое «Elizabeth».
* * *
Кипят споры о роковом вечере закрытия «Учредилки» матросом Железняком:
– Прекратил он тогда В. М. Чернова или не прекратил?
Выступают свидетели, утверждающие, что прекратил.
Сам В. М. Чернов настаивает, что – нет. После дружескаго нажатия матросом Железняком на плечо его, он существовал еще несколько минут и даже успел провести несколько резолюций.
Почему не верят ему? за что отказывают в этом триумфе?
Как будто дело в том, что угасла «Учредилка» четвертью час раньше или позже и задул ее один матрос или дули несколько матросов. Важно, что она сегодня угасла, а завтра уже не зажглась. Не могла зажечься. А угасла и не зажглась она по той простой причине, что, в существе своем, была подмочена. Одно дело – Учредительное Собрание, а другое Учредилка. Учредительныя Собрания на приказы разойтись отвечают:
– Мы уступим только силе штыков.
И штыки пред ними робко опускаются, потому что штыконосцы чувствуют за ними волю народа, которая сильнее штыков.
Учредилкам штыконосцы не дают даже произнести «историческия фразы». Просто командуют:
– Пошли к… (с разнообразием «морских терминов» в зависимости от энергии и вкуса взводнаго командира).
Уходят, оставляя себе в утешение право сказать:
– Мы уступили только силе штыков.
К сожалению, эта фраза в прошедшем времени и после поражения звучит далеко не так красиво, как в будущем – перед сражением.
Не знаю, правду ли передавали очевидцы, будто, во время этого предсмертнаго заседания «Учредилки», Ленин, в ложе, даже не удостоивал сидеть, а лежал, протянув ноги по стульям. И хохотал, как сумасшедший. Каковым, конечно, он уже был.
Провалявшись таким манером с полчаса или час, встал и уехал, предоставив «исторический вечер» судьбам его.
Историю делят на древнюю, средневековую, новую, новейшую и… скверную.
Увы! финал «Учредилки» относится всецело к области последней. И активно, и пассивно.
* * *
Собственно говоря, никакого «заседания» тогда в Таврическом дворце не было, а было два маскарада ряженых под «волю народа». Один маскарад отплясывает парламентскую пантомиму, с красивыми условными словами и, сглупа, без оружия. Другой, полукавее и понаглее, вооруженный и с словами матерными. Вооруженные матерщинники вытурили безоружных краснословов, положили ноги на стол и заявили:
– Воля народа это мы. А кто не приемлет, того прикладом по башке да к стенке.
На деле, конечно, «воля народа», тем вечером, даже и не заглядывала в Таврический дворец. Да и вообще: где, кто, когда и как ее видел и в то время, и после эту истинную то «волю народа» и смеет с уверенностью сказать, что его не обморочило ряженое чучело. Все искали и ищут, ловили и ловят эту «Синюю Птицу». Романовцы, кадеты, эс-деки, эс-эры. И всем она ни даже кончика хвоста своего не показала. И все, оставшись при сомнении, сидят у моря и ждут погоды – тоже при сомнении.
Вон – царисты уж как усердствуют, и манят, и толкают, сыграть на «волю народа» в кн. Николая Николаевича. А старик то не так прост как слывет. На все уговоры и соблазны знай твердит одну песню: